— Как вы думаете, подходит эта клетка для канарейки? — спрашивает она.
— Безусловно! — говорю я и начинаю нести какую-то чушь насчет «канарейки и этого средневекового замка». Бог знает в чем дело: с другими, даже более находчивыми, женщинами я держусь непринужденно, а с этой, простодушной, не могу разговаривать как следует! Сколько ей может быть лет? Когда она смеется, похоже, что ей девятнадцать, а когда глядит серьезно — все тридцать. Черт тут разберет!
Рядом Провазник уговаривает живописца, чтобы тот, рисуя портреты, иногда приглядывался и к оригиналу, — это, мол, довольно важно. Широкая публика, мол, не понимает подлинного искусства и требует таких глупостей, как сходство. Потом он сообщает, что в Вене теперь рисуют портреты валиком. Это большой прогресс. В четверть часа можно «навалять» картину. Живописец хлопает Провазника по спине, и тот замолкает.
Подходит домохозяин, всем раздает свои записочки и слабо хрипит.
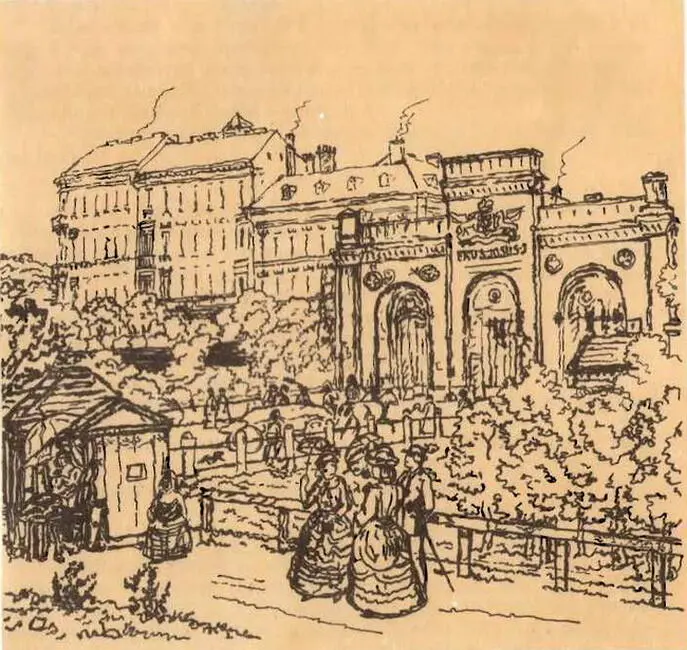
Винценц Морштадт. Поржичские ворота. 1870
Через несколько минут Провазник отводит меня в сторону. Ничего не делается для того, чтобы помочь пражским беднякам, говорит он. Одни разговоры: «Бедные люди! Нет работы!» — а никто палец о палец не ударит. Он, Провазник, мог бы кое-что для них устроить. Есть у него, например, один проект. Ничего грандиозного, но полезно для многих бедняков. Проект не потребует больших расходов: надо только соорудить паровой котелок на ручной тележке. С ним можно ездить от дома к дому и паром чистить чубуки от трубок. В Праге много курильщиков, и эта затея дала бы большой доход. Каково мое мнение?
Я говорю, что восхищен.
Опять игра в шестерку. Группировка партнеров остается та же, к ней, мол, уже привыкли. Все идет, как вчера, с той разницей, что сегодня я проигрываю семьдесят крейцеров. Под конец домохозяин снова поднимает крик. Потом он с дочерью уходит. Живописец с женой сидят в раздумье.
— Завтра воскресенье, — говорит наконец он. — Знаешь что, купи гуся!
Кликеш страшно зол. Дело в том, что что он состоит в городском кавалерийском ополчении, и сегодня у них умер ротмистр. Обсуждался вопрос о его похоронах. Кликеш предложил по телеграфу просить Вену посмертно присвоить покойному чин майора, тогда похороны можно будет устроить куда пышнее. Но кто-то из собравшихся был разумнее его и отговорил всех от такого шага. Кликеш так зол, что ни с кем не разговаривает.
Заходит разговор о смерти. Говорят, что кто-то умер в семье торговца, чья лавка находится на площади. Кто?
— А всего лишь его отец, — сообщает трактирщик. — Он был так стар, что сам стеснялся этого.
А отчего он умер? От чахотки, как и дед. Так уж у них заведено в роду.
Торговец — этот должен сделать завещание.
Этак в самом деле никуда не годится. Разве это занятия! Я продвигаюсь вперед со скоростью улитки, гляжу в книгу, а думаю о чем-то другом. Не то чтобы я взволнован, нет, я просто не могу сосредоточиться. В голову лезут образы моих соседей, они кишат там, наверх выползает то одна, то другая фигурка и то кувыркается, то рассказывает что-то, потом каждая смеется на свой манер…
Не для такого образа жизни я переехал на Малую Страну.
Одиннадцать часов. Я слышу, как в кухне звякнула сабля. Наверное, этот военный — наш родственник. Кавалерист?
Плач, пронзительный крик Августихи, болезненный собачий визг и вой. Я узнаю, что пес совершил нечто чудовищное: сожрал хозяйкино портмоне, в котором были семейные сувениры — волосы покойного отца, листок от свадебной исповеди и еще бог весть что.
Полчаса относительной тишины, потом новый скандал у живописца. Он только что пришел домой, видимо, из погребка. Слышен его громкий голос, брань, потом сердитая фраза:
— Говорю тебе, дрянь ты этакая, что гусиная печенка полагается главе семьи, это тебе всякий скажет, паскуда ты несчастная!
Живописец появляется у окна. Он с трудом держится на ногах. Я быстро прячусь за подоконником и через секунду слышу:
— Пан Семпр, правильно я говорю или нет, что гусиная печенка полагается главе семьи?!
Семпр не отвечает, но живописец кричит снова:
— Вот видишь, ты…
Видимо, после утраты семейных реликвий Августиха с горя полакомилась гусиной печенкой.
Шум и перебранка напротив продолжаются. Слышен возглас живописца:
— А те две десятки он тоже сожрал? На что же мы теперь жить будем?
Читать дальше
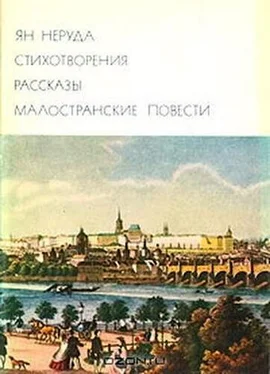
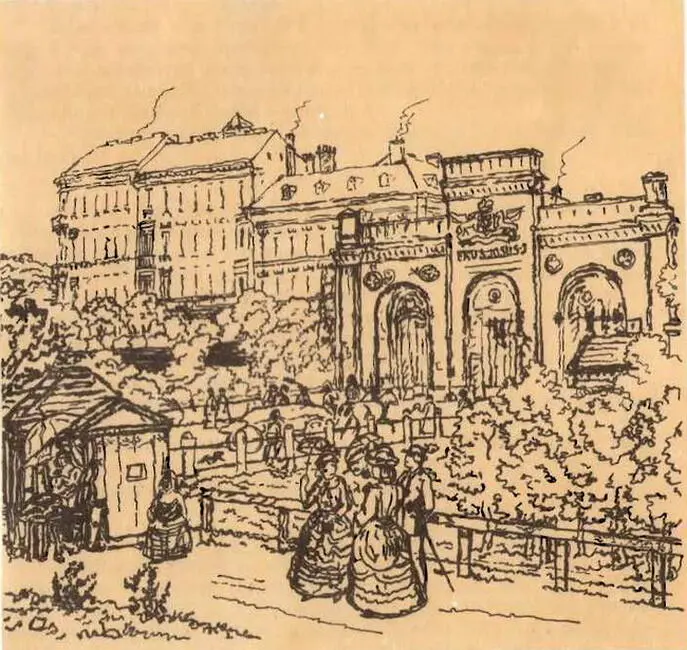


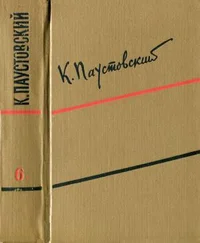






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

