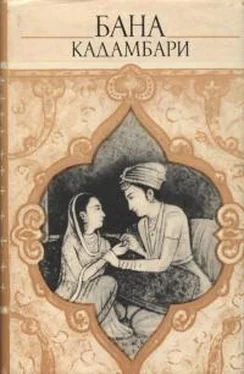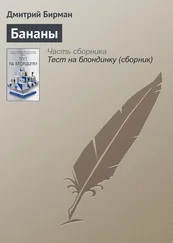Шуканаса же в силу своей мудрости как бы играючи нес великое бремя царской власти. Он вершил дела государства, как вершил бы их сам царь, и удвоил преданность его подданных. Его так же, как Тарапиду, чтили вассальные государи, и, когда они приветствовали его низкими поклонами, трепетала сеть лучей от драгоценных камней в их коронах, зала царского совета увлажнялась каплями нектара с их цветочных венков, а браслеты на их руках вплотную прижимались к золотым серьгам в их ушах. А когда он выступал в поход, цоканье копыт его конницы оглушало десять направлений света, горы рушились от тяжкой поступи его войска, земля чернела от мускуса, льющегося из висков грозных боевых слонов, реки становились серыми от клубов поднятой пыли. От топота ног воинов лопались барабанные перепонки, вся округа гремела от грома победных криков, тысячи реющих в воздухе белых опахал заслоняли небо, и свет солнца меркнул, скрытый за золотыми зонтами царей, составляющих его свиту.
Царь Тарапида, возложив бремя власти на своего министра и сам предавшись утехам юности, со временем познал все доступные человеку радости. Все, кроме одной: радости увидеть собственного сына. Жены его гарема, хотя и вкушали вместе с ним все его удовольствия, походили на заросли кустарника — с цветами, но без плодов. И по мере того как уходила молодость, царь все больше и больше печалился, что он бездетен и заветное его желание не сбывается. Его сердце пресытилось плотскими усладами. Окруженный тысячами царей, он чувствовал себя одиноким, зрячий — казался себе слепым и, будучи опорой мира, — сам себе не имел опоры.
Как лунный камень в копне волос Хары, как блеск камня каустубхи на груди Вишну, как драгоценный камень в капюшоне Шеши, как гирлянда цветов на шее держателя палицы Баларамы, как берег для океана, следы мускуса для слона — хранителя мира, лиана для могучего дерева, цветение деревьев для весны, свет для луны, лотос для пруда, звезды для неба, стая гусей для озера Манаса, сандаловая роща для гор Малая — так лучшим украшением для царя была первая из жен его гарема, царица Виласавати, которая вызывала восхищение во всех трех мирах и казалась средоточием женской прелести.
Однажды, войдя в покои царицы, царь застал ее сжавшейся в комок на кушетке; она подпирала ладонью левой руки свое лицо-лотос, сняла с себя все украшения и осталась с непричесанными и спутанными волосами в одном шелковом платье, мокром от беспрерывно льющихся слез. Поодаль с грустными, озабоченными лицами молча толпились слуги, вокруг стояли женщины свиты, не отрывавшие от нее опечаленных взглядов, а рядом с ней — старшие жены гарема, пытавшиеся ее утешить. Она хотела встать навстречу царю, но он усадил ее обратно на кушетку, сам сел подле нее и, желая узнать, чем вызваны ее слезы, которые он стер ладонью с ее щек, встревоженно спросил: «Царица, отчего ты плачешь беззвучно и горько, приняв на одну себя тяжесть своей печали? Капли слез словно бы связывают твои ресницы в жемчужные нити. Отчего, тонкостанная, не надела ты своих украшений? Почему не покрыла свои ноги красным лаком и не стала похожей на солнце, озаряющее розовым светом бутоны лотосов? Зачем не скользят по твоим ногам-лотосам драгоценные браслеты, будто белые гуси по озеру бога любви с цветочным луком? По какой причине безмолвствует твой стан, лишенный звонкозвучного пояса? Почему на груди твоей нет орнамента темной пасты, похожего на знак лани на полной луне? По какой причине твоя тонкая шея, о широкобедрая, не украшена ожерельем, подобным потоку Ганги, струящейся рядом с месяцем в волосах Шивы? Зачем понапрасну вянут твои щеки, красавица, на которых узоры шафрана смыты ручьями слез? Отчего единственным украшением для твоих ушей, похожих на лотосы, стала твоя ладонь с ее нежными пальцами-лепестками? По какой причине, высокочтимая, вместо тилаки, нанесенной желтой мазью, на твой лоб легли эти спутанные пряди? Кудри твоих волос, не убранные цветами, черные, как сгустки тьмы в первую стражу ночи, терзают мой взор. Сжалься, царица! Поведай мне причину твоей скорби. Твои протяжные вздохи, от которых колышется платье на твоей груди, приводят в трепет мое любящее сердце, точно красный листок на ветке. Я в чем-то провинился? Или кто-то из твоих слуг? Как ни стараюсь припомнить, клянусь тебе, не знаю за собой и малой вины. Ибо ты для меня — и жизнь и царство. Так расскажи же, прекрасная, в чем твое горе!»
Так он умолял Виласавати, но та не отвечала ни слова. Тогда он стал расспрашивать слуг, чем вызваны ее слезы, и хранительница ларца с бетелем по имени Макарика, которая никогда с царицей не расставалась, сказала: «Божественный, разве мог государь хоть в чем-то провиниться перед царицей? А зная, как он к ней расположен, кто из челяди или придворных осмелился бы ее оскорбить? Нет, царица наша страдает оттого, что ее супружество с государем оказалось бесплодным, как если бы она была в плену злых чар, и мысль эта гнетет ее уже долгое время. Давно уже моя госпожа, будто царица подземного царства, упорно избегает всех радостей жизни. Ею настолько владеет печаль, что слугам с великим трудом удается уговорить ее лечь спать, поесть, умыться, надеть украшения или заняться каким-то иным привычным делом. Она пыталась скрыть свое горе, чтобы не омрачать заботой сердце государя, но сегодня, в четырнадцатый день светлой половины месяца, отправившись в храм почтить молитвой благого Махакалу, она вдруг услышала там такие стихи из „Махабхараты“:
Читать дальше