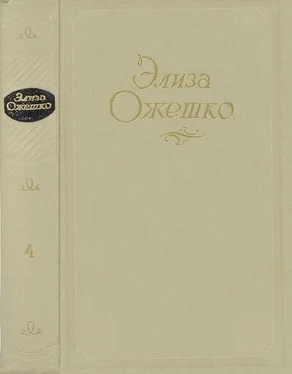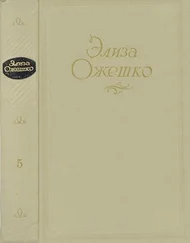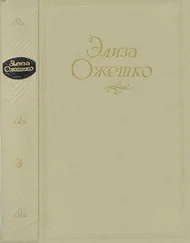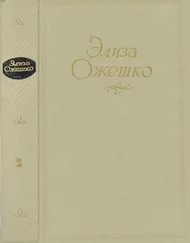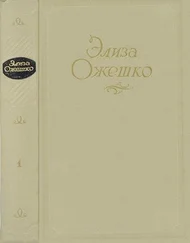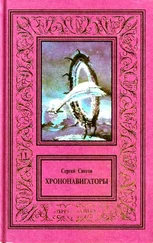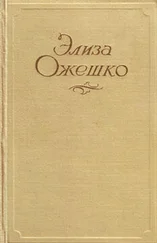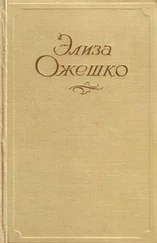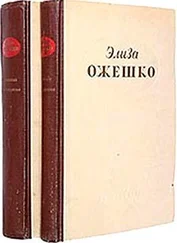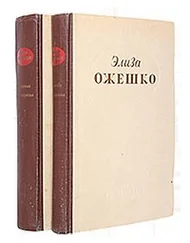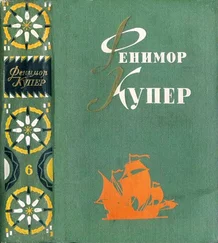Впрочем, никто в доме не проявлял чрезмерного любопытства ни к Ежу, ни к тому, что с ним произошло. Как раз в эту пору кололи свиней, и Кулешова с дочками и прислугой совсем потеряли голову, на год заготовляя их впрок на весь громадный дом, а Кулеша настолько был занят спешной молотьбой хлеба и поставками в город, что, случалось, по целым дням не бывал дома. Даже поесть ему носили в ригу или на гумно, откуда он возвращался до того усталым, что ему уже было не до разговоров и шуток. Тем не менее, однажды невольно подслушав разговор Ежа с одним из лесников, он пересказал его за ужином жене и дочерям. Проходя мимо флигеля, он увидел в дверях Ежа с лесником, который просил у него разрешения уехать на несколько дней к себе в деревню. У него были какие-то дела, и нужно было повидаться с братом, но через несколько дней он твердо обещал вернуться.
— Хорошо, — сказал Ежи, — поезжай, но не больше, чем на три дня…
С минуту он о чем-то раздумывал, а потом снова заговорил:
— А заодно, Антони, я попрошу тебя об одной услуге. Ты будешь проезжать неподалеку от моей хаты… Знаешь плотину в лесу, от которой по обе стороны тянется малинник? Так вот, сразу же за малинником дорога поворачивает вправо, в большой дубовый лес, дубы там редкие, и между ними кое-где береза и рябина… по этой дороге, как повернешь с плотины, не больше двух верст до хаты лесника Миколая Хутки… то есть моего отца. Сделай милость, съезди туда и скажи, что я очень прошу, чтобы кто-нибудь из дому поскорее приехал ко мне, — отец или мать… Лучше мать, пусть кто-нибудь из братьев ее привезет… Только скажи, что я очень прошу и непременно, непременно…
Лесник поклонился, обещал исполнить приказание начальника и отправился во-свояси, а Кулеша, стоявший в стороне, подошел к Ежу. Ни Кулеша, ни другие, кто и встречался с Ежем чаще его, не обратили внимания на то, что в последние дни он никому и ни при каких обстоятельствах первый не подавал руки. Так и теперь, когда Кулеша подошел к нему, не вынимая из карманов озябшие руки, Ежи только снял шапку и поздоровался вежливо, но равнодушно, без улыбки и малейшей поспешности.
— А вы, пан Ежи, — начал Кулеша, — видно, сильно соскучились по дому и по родным, что так торопите родителей скорей к вам приехать.
— Соскучился, — отвечал юноша. — Уже почти три месяца, я никого из своих не видел.
— Полагаю, что и здесь вы не среди чужих… Ежи поклонился.
— Спасибо на добром слове, но я отлично понимаю, что для вас, как и для вашего семейства, я далеко не свой.
Кулеша вскипая, но не успел и слова вымолвить, как Ежи прибавил:
— А что я питаю к родителям любовь и уважение — в этом нет ничего удивительного. Отец мой почтенный человек и сделал мне много добра, а мать у меня такая, что лучше, кажется, ни у кого и на свете нет.
Говорил он это с такой гордостью, и в глазах у него блеснула такая нежность, что Кулеша призадумался. Возвращаясь домой, он бормотал под нос:
— Прекрасный сын! И сердце прекрасное! Но откуда взялось у него это равнодушие к нам?
Он решительно не понимал, почему Ежи вдруг к ним изменился, и сильно подозревал, что жена, кому-нибудь рассказывая о нем, может быть, нехотя проехалась насчет его мужицкого происхождения. Поэтому за ужином он заговорил о встрече с Ежем и пересказал его разговор с лесником. Затем, пристально глядя на жену, спросил:
— А вы, Теофиля, не брякнули чего-нибудь сдуру, а? Вы хорошенько вспомните!
Но когда Теофиля принялась креститься и, разохавшись, поклялась, что эти дни за солкой свинины ей и вспомнить-то было некогда о нем, Кулеша покачал головой и сказал про себя:
— Ну, уж тогда я, ей-богу, не понимаю! Разве что с отчаяния рехнулся парень!
Аврелька, слушая отцовский рассказ, быстрее обычного ворочала головой во все стороны и была очень похожа на испуганную птичку. После ужина она убежала из комнаты и куда-то пропала, а когда понадобилось читать газету отцу, ее насилу дозвались. Чтение газет доставляло Кулеше неизменное удовольствие, особенно зимой, но никто, кроме Аврельки, не мог ему угодить. Жена слишком пищала, Каролька глотала слова, а Зоська все перевирала, так как не могла удержаться, чтобы не зевать по сторонам, и только чтение Аврельки приходилось ему вполне по душе. Поэтому она, как всегда, читала ему и в этот вечер, а он, лежа в канцелярии на жестком диване, курил трубку и слушал. Дочитав до конца, Аврелька ушла, а Кулеша снова засел за счета.
Но вот все в доме затихло, погасли все огни, кроме его лампы, а старые часы, висевшие в столовой, пробили одиннадцать. У Кулеши тоже слипались глаза, но ему еще нужно было выполнить сегодня последний долг хозяина: тщательно осмотреть дом, проверить, все ли окна и двери закрыты на ночь и везде ли погашены огни. В этом он ни на кого не полагался и зачастую осматривал даже флигель и квартиры батраков. Он достал медный подсвечник, зажег огарок свечи и, выйдя из канцелярии, первым делом подергал входную дверь. Затем в двух следующих комнатах осмотрел окна, так как девушки, по рассеянности, часто забывали захлопнуть форточку. По привычке закрывая рукой свечу, он тихо ступал в своих мягких войлочных туфлях, словно толстый серый призрак с румяной физиономией. Обходя одну за другой низенькие горенки, сплошь заставленные простенькой мебелью, он вдруг остановился и, подняв голову, стал к чему-то прислушиваться. Из соседней комнаты, столовой, доносились заглушённые, но все же язственные рыдания.
Читать дальше