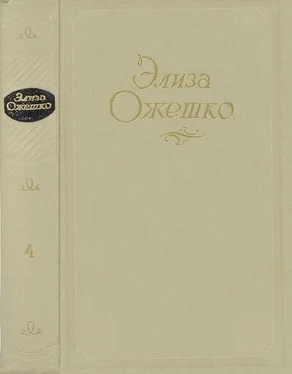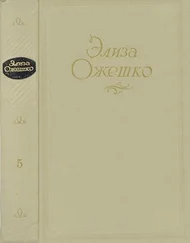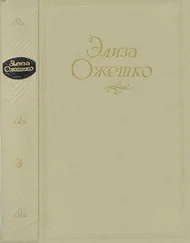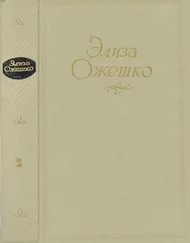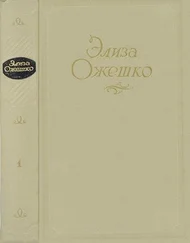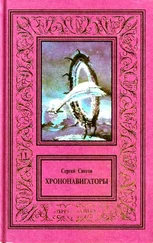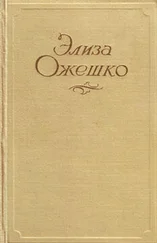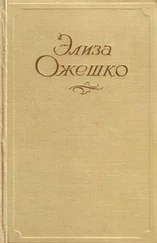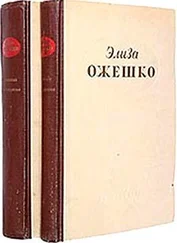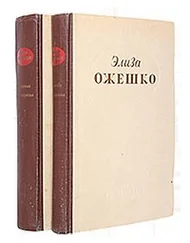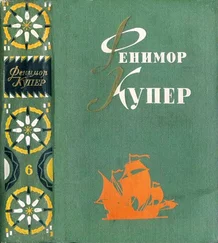— Сверхчеловек — это тот, кто, невзирая ни на что и не щадя никого, умеет хотеть!
При мысли о том, что вскоре, быть может, она станет женой барона и покинет этот дом, у Ирены сдвинулись брови и с лица ее сбежала улыбка. О нет, она покинет его не одна! Это будет поставлено барону непременным условием, и он, наверное, его примет, учитывая цифру ее приданого. В серых, вдруг загоревшихся глазах Ирены видна была энергия. Она так порывисто обернулась к дверям спальни, что металлическая шпилька в ее волосах блеснула отточенной сталью.
— Нужно уметь хотеть! — шепнула Ирена.
Лишь на другой день после разговора с Мальвиной Дарвидовой Краницкий, ночевавший у Мариана, вернулся домой; старуха Клеменсова, едва взглянув на него поверх больших очков, всплеснула руками.
— Да ты захворал, что ли? Вот притча арабская! На кого ты похож? Что случилось? Уж не колики ли опять тебя схватили?.. Чего ты шубу не снимешь? Постой! Сейчас помогу! Только и не хватало тебе захворать!
Это была плотная, коренастая женщина, в клетчатой шали на плечах и короткой юбке, открывавшей плоские ступни в рваных калошах. На вид ей было лет семьдесят; седые волосы и белый чепец подчеркивали желтизну ее широкого, сильно увядшего лица, на котором ярко блестели темные, еще огневые глаза, проницательно глядевшие из-под высокого морщинистого лба. От нее веяло чем-то исконно-деревенским, не вяжущимся ни с этой маленькой гостиной, ни с ее владельцем. В гостиной этой было все, что всегда бывает в гостиных: диван, кресла, столы, зеркало, затем низкая и широкая оттоманка с подушками в восточном вкусе, фарфоровые статуэтки на подзеркальнике, старомодный шкафчик с книгами в роскошных переплетах, несколько маленьких, но недурных картинок на стенах, множество фотографий, группами развешанных над оттоманкой, большой альбом с фотографиями на столике возле дивана. Но все это было старье, накопленное годами и обветшалое от времени. Вышивка на подушках выцвела, на фарфоровой подставке лампы был отбит уголок, позолоченная рама зеркала кое-где поистерлась, а кожаная обивка на мебели полопалась, и местами виднелся войлок. На первый взгляд гостиная казалась элегантной, но уже через минуту сквозь дыры и пятна проглядывала тщательно приукрашенная бедность. Скрашивала ее главным образом ослепительная чистота; видно, чьи-то заботливые, работящие руки тут неутомимо и кропотливо мели, вытирали, зашивали и чинили… То были маленькие старческие руки с широкой кистью и короткими пальцами, которые теперь помогали Краницкому расстегнуть шубу. При этом скрипучий, ворчливый голос с затаенной нежностью приговаривал:
— Опять ты дома не ночевал. Все, верно, картишки да мадамки! Ох, наказание господне! Оттого и пришел больной. Уж я вижу, что болен! Все лицо в красных пятнах и сам насилу на ногах стоишь! Вот притча арабская!
Измученным голосом, Краницкий ответил:
— Оставьте меня в покое, мать! Я болен и несчастен; да, я несчастнейший человек на свете. Для меня все кончено. Tout est bien fini pour moi [25] Для меня все безвозвратно кончено (франц.).
. Последите, пожалуйста, за дверью, чтобы никто не зашел. Я слишком страдаю, чтоб выносить этих докучливых людей. Je souffre trop [26] Я слишком страдаю (франц.).
.
У него действительно слезы стояли в глазах и вид был самый плачевный. В эту минуту, кроме старой, по-собачьи преданной няни, его никто не видел, и он мог, наконец, сбросить с себя кандалы наигранной молодости и элегантности. Плечи его ссутулились, щеки обвисли, на лбу пролегли морщины и выступили красные пятна. Он скрылся за полуоткрытой дверью спальни, а Клеменсова снова принялась за работу, прерванную его приходом. Посреди гостиной на раздвинутом карточном столе был разостлан мужской шлафрок из некогда прекрасной турецкой материи; теперь шлафрок выцвел, а подкладка разорвалась. За починкой этой подкладки и застал Клеменсову, вернувшись домой, Краницкий; надев на толстый палец медный наперсток, старуха снова уселась за стол и, вооружившись большими очками в металлической оправе, стала рассматривать прореху, из которой наружу с любопытством выглядывала вата. С сосредоточенным видом Клеменсова занялась шитьем, но все время что-то шептала или, верней, тихо и монотонно бормотала:
— Дверь ему карауль, чтоб никто не зашел! Будто кто сюда заходит? Раньше-то заходили дружки да покровители всякие; иной раз, правда, заходили, потом — редко когда стали показываться, а сейчас уж добрых года два ни одна собака сюда не заглядывает. Он, видишь, боится, чтоб ему не докучали! Ну, как же! Так они к тебе все и полезут — князья, графы да богачи всякие! Как бы не так! Пока был новенький да хорошенький, они им тешились, словно блестящей пуговицей, а как примелькался он да поистерся, его и забросили в угол. Родня, приятели, дружки! Вот притча арабская! Ох, уж этот свет!
Читать дальше