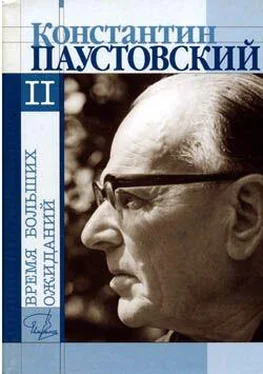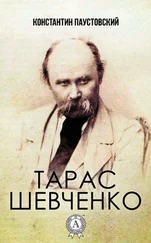Я не могу передать боль и радость этой любви, когда ждешь неизбежных потрясений, когда утро гремит сотнями корабельных гудков и исполинское солнце пролетает над зимними днями. Я опускаю глаза, чтобы встречные женщины не подумали, что я люблю их всех.
Любовь созрела и цветет, и зеленые морские дни – как дни из сказок.
Я боюсь возвращаться в гостиницу, – Сташевский посмотрит и обо всем догадается. Я не уеду отсюда. Я буду голодать с Гарибальди, проводить ночи в ночлежке и слоняться по улицам, под этим небом дни и ночи. Я смотрю на прохожих глазами, темными от сдержанного восторга. Что со мной, я сам не могу понять, но мне почему-то страшно.
Вот как случилось это маленькое событие.
Гарибальди пришел взволнованный и принес цветы – белые астры и левкои и записку на мое имя. Запахом осени наполнилась комната.
– Откуда это, Гарибальди? – спросил Сташевский.
Гарибальди таинственно рассказал, что он встретил на улице девушку, она спрашивала его о больном. Потом она вошла в магазин «Ницца», купила цветы и сказала, чтобы их поставили в теплую воду около постели больного.
– Хатидже, – сказал Сташевский. – Славная девушка. – И он прикоснулся к цветам.
Я взял маленькую записку.
«Почему вы не приходите, Максимов? Мне нужно спросить вас о многом. Ведь вы еще не скоро уедете?»
Гарибальди снова зашептал:
– Она спросила меня: «Когда можно прийти к вам?» Я сказал: «Синьорина может прийти вечером, я сыграю для нее на скрипке».
– Молодец, старик. Ну и что же?
– «Хорошо», – сказала она, попрощалась и протянула мне свою руку.
И теперь рука у него еще пахнет, так пахнет…
Вечером в нашем номере стало даже уютно.
Гарибальди надел синие брюки Сташевского, почистил рыжие ботинки, поскреб свою табачную щетину и стал похож на старого прожженного боцмана с грязных итальянских буксиров.
Хатидже вошла в номер, тотчас смущенно засмеялась, вытащила из меховой муфты печенье, шоколад и неразрезанный томик стихов.
– Это книжка Блока, – сказала она Сташевскому. – Мне казалось, что вы должны его любить.
Я пошел за Гарибальди.
Когда я проходил мимо свинцового, мутного зеркала, я заметил, что тоже смеюсь, и подумал: «Ей было немного страшно идти сюда, но теперь все прошло».
Гарибальди долго настраивал скрипку, потом вздохнул и пошел со мной.
Когда мы вошли, я заметил, что Хатидже была еще больше взволнована. Голос ее стал низким, грудным, Гарибальди бережно взял ее руку, поцеловал, опустил, как драгоценность, и засмеялся, сморщив свое старое доброе лицо.
Потом он играл старинные галантные мелодии, которые напевала Венеция времен Карло Гольдони и Гоцци. Хатидже была поражена.
– Ведь он – талантливый музыкант, – сказала оиа Сташевскому. – Чем он живет?
– Играет по дворам, на свадьбах, в портовых тавернах для иностранных матросов.
Вошел Семен Иванович с бутылкой коньяка, и Гарибальди встретил его бравурным маршем.
Не было рюмок, и мы пили коньяк из чайных стаканов.
Сташевский предложил длинный тост за Блока. Это дало ему повод сделать несколько горьких упреков по нашему с Винклером адресу: «Шалопаи, влюбленные в слова мальчишки, из которых все равно ничего не выйдет. Умеют только издеваться над всем, в том числе и над старшим товарищем».
Заговорили о Париже. Хатидже почему-то вспомнила парижскую осень, когда над мансардами тихо шумят дожди, город отражается в мокром, черном, как сажа, асфальте и по вечерам надо зажигать камин.
– В эти вечера охватывала такая тоска по России! Я боялась, что никогда не вернусь.
Она замолчала, опустила глаза и медленно стала перебирать мои пальцы.
– А теперь, Максимов, спой наш гимн, – попросил Сташевский.
Гарибальди глухо взял отрывистую мелодию:
Нам жизнь от таверны до моря,
От моря до новых портов.
Мы любим бессонные зори,
Мы любим разгул кабаков
И топим налипшее горе
У залитых водкой столов.
– Что это? – прошептала Хатндже, но струны снова отрывисто захохотали:
Эй, бубны, эй, чертовы скрипки!
Держитесь, чтоб в трюм не упасть!
Так волны по осени зыбки,
Ладони изрезала снасть.
Ловите любовь и улыбки,
Приливам и бурям смеясь!
И снова быстрая, ускользающая мелодия взмыла и стихла.
– Что это? – спросила Хатидже и наклонилась ко мне.
– Это наш гимн, – ответил Сташевский, – гимн пяти.
– Как пяти? Четырех.
Гимн пяти. Он принял Хатидже в нашу бродячую банду. Хатидже поняла, покраснела и взглянула на меня умоляющими глазами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу