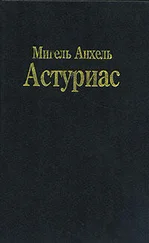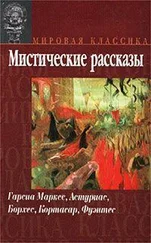И каждый охотник-воин взялся за голову, жарким дыханием обдавало лица, а глаза, в такт барабанному гулу, и гулу шквалов, и гулу склепов, заплясали перед Тоилем.
После того как скрылись эти странные видения, Кара де Анхель простился с Президентом. При выходе его остановил военный министр и вручил ему пачку денег и пальто.
– Вы не идете домой, генерал? – Он еле выдавил из себя слова.
– Если бы я мог… Лучше я вас потом провожу, или, быть может, увидимся как-нибудь в другой раз; мне надо, видите ли, еще побыть здесь… – И он наклонил голову к правому плечу, прислушиваясь к голосу хозяина.
Река, которая текла по крыше, пока они укладывали чемоданы, не иссякала здесь, в доме, а впадала куда-то в даль, в безбрежность, сливавшуюся с горизонтом, быть может, с самим морем. Ветер ударом кулака распахнул окно; ворвался дождь, словно стекло раскололось на тысячи осколков; взвились вверх занавески и листы бумаги, захлопали двери, но Камила не замечала этого. Ее отгородили от мира пустые пасти чемоданов, которые она заполняла, и, хотя буря украшала ей волосы шпильками молний, она ничего не чувствовала; ей казалось, что ничто не заполняется, не меняется, остается таким же пустым, невеселым, без тела, без души, как она сама.
– …Жить здесь или жить вдали от этого чудовища! – повторил Кара де Анхель, закрывая окно. – Как ты скажешь?… Лишь бы успеть! Может быть, еще удастся увернуться от него!
– Но ведь ты сам мне рассказал вчера вечером о тех оголтелых дьяволах, что пляшут в его доме…
– Ну, зачем об этом думать!… – Раскаты грома заглушали его голос. – А кроме того, скажи, разве смогут что-нибудь заподозрить? Пожалуйста: в Вашингтон меня посылает он сам; сам он оплачивает путешествие… Вот как, черт побери! Теперь, когда я окажусь далеко отсюда, все изменится, все станет возможным: ты приедешь ко мне под предлогом твоей или моей болезни, а там – пусть бесится, ищет ветра в поле…
– А если он меня отсюда не выпустит?…
– Тогда я вернусь как ни в чем не бывало, и все останется шито-крыто, не так ли? А под лежачий камень вода не течет…
– Тебе всегда все представляется таким легким…
. – Того, что у нас есть, достаточно, чтобы прожить в любом другом месте; именно жить, жить по-настоящему, не повторять ежедневно, ежечасно: «Я мыслю мыслями Сеньора
Президента, следовательно, я существую, я мыслю мыслями Сеньора Президента, следовательно…»
Камила подняла на него глаза, полные слез; рот словно набит песком, в ушах стучат дождевые капли.
– Отчего ты плачешь?… Не плачь…
– А что же мне, по-твоему, делать?…
– Всегда с женщинами одна и та же история!
– Оставь меня!…
– Ты захвораешь, если не перестанешь плакать; ради бога!…
– Нет, оставь меня!…
– Словно я еду на смерть или меня собираются заживо похоронить!
– Оставь меня!
Кара де Анхель бережно заключил ее в объятия. По его щекам, щекам мужчины, не привыкшего плакать, ползли, извиваясь, две слезы, как два горячих, кривых гвоздя, которые невозможно вытащить.
– Но ты мне будешь писать… – прошептала Камила.
– Конечно…
– Я очень прошу тебя об этом! Ведь мы никогда не расставались. Пиши мне, пиши; для меня будет страшным мучением, если придется жить, день за днем, ничего не зная о тебе… Береги себя! Не верь никому, слышишь? Не будь слишком доверчив ни с кем, в особенности с земляками, это подлый народ… Но больше всего я прошу тебя, чтобы… – Поцелуи мужа мешали ей говорить, – …чтобы… я прошу… чтобы… прошу тебя… писать мне!
Кара де Анхель запирал чемоданы и глядел, не отрываясь, в глаза своей жены, затуманенные, светившиеся нежностью. Дождь лил как из ведра. Вода гремела цепями в желобах. Их угнетала горестная мысль о близком завтра, уже таком близком. В полном молчании – вещи были уложены – они начали раздеваться, чтобы лечь спать под тиканье часов, которые дробили на кусочки время, остававшееся до разлуки, – тнхере-тик-так… тнхерс-тик-так… тнхере-тик-так! – и под звон москитов, которые мешали уснуть.
– Мне сейчас вдруг почему-то подумалось, что двери запирают для того, чтобы не залетели москиты! Какая я глупая, боже мой!
Вместо ответа Кара де Анхель прижал ее к своей груди; ему казалось, что в его объятиях – овечка, которая даже блеять не может, слабая, беспомощная.
Страшно было погасить лампу, закрыть глаза, произнести слово. При свете и в тишине они были так близки друг другу а голос рождает расстояние между теми, кто говорит; опущенные веки отдаляют. Быть в темноте – словно быть вдали друг от друга, да и потом все, что они хотели сказать в эту последнюю ночь, как бы долго они ни говорили, казалось им отрывистым лепетом телеграммы.
Читать дальше