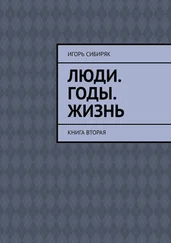Он подарил мне на память маленькую книгу, надписал: «В знак близости в одном, расхождений в другом». Это относилось к нашему спору о поэзии. О событиях того грозового лета мы не говорили; только уходя, я не выдержал, спросил: что будет дальше? Валерий Яковлевич ответил стихами:
Растет потоп… Но с небосвода,
Приосеняя прах.
Как арка радуги, свобода
Гласит о светлых днях.
Я снова очутился на Сухаревке. Слепой с его «Адамием» исчез. На углу Сретенки толпились люди - кого-то пырнули ножом, Я постоял и пошел дальше; а думал я не о Тезее - о потопе.
Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, было двадцать пять лет. В ней поражало сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой - голова, откинутая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие - Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским пареньком.
В одном стихотворении Цветаева говорила о своих бабках: одна была простой русской женщиной, сельской попадьей, другая - польской аристократкой. Марина совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, высокомерность и застенчивость, книжный романтизм и душевную простоту.
Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи; некоторые мне нравились, особенно одно, написанное за год до революции, где Марина говорила о своих будущих похоронах:
По улицам оставленной Москвы
Поеду - я, и побредете - вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет,-
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярине Марине…
Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала:
Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лилий полны объятья,
И ты без мысли глядишь…
Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой - Але - было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины - она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов.
В ранних стихах Цветаева воспевала вольницу Разина. По природе она была создана скорее для бунта, чем для добротного порядка, о котором тосковали летом 1917 года перепуганные обыватели. У Цветаевой с ними не было ничего общего; но она отшатнулась от революции, создала в своем воображении романтическую Вандею; жалела царя (хотя и осуждала:
Помянет потомство
Еще не раз
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз).
Повторяла:
Ох, ты барская, ты царская моя тоска…
Почему ее муж, Сережа Эфрон, ушел в белую армию? Я знал в Париже старшего брата Сережи - актера Петра Яковлевича Эфрона, больного туберкулезом и рано умершего. Сережа походил на него - был очень мягким, скромным, задумчивым. Никак не могу себе представить, что ему захотелось стать шуаном.
Он уехал, а Марина писала неистовые стихи: «За Софью на Петра!» Писала:
Андре Шенье взошел на эшафот,
А я живу, и это страшный грех.
Она читала эти стихи на литературных вечерах; никто ее не преследовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной, труднейшей жизнью.
Когда осенью 1920 года я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же исступленном одиночестве. Она закончила книгу стихов, прославлявшую белых,- «Лебединый стан». К тому времени я успел многое повидать, в том числе и «русскую Вандею», многое продумал. Я попытался рассказать ей о подлинном облике белогвардейцев - она не верила; пробовал я поспорить - Марина сердилась. У нее был трудный характер, и больше всех от этого страдала она сама. У меня сохранилась ее книга «Разлука», на которой она написала: «Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой дружбы. Эренбургу от Марины Цветаевой. Берлин, 29 мая 1922 года». (С ятями, даже с твердыми знаками, хотя к этому времени от прежних твердых позиций в ней оставалось мало что.)
Когда весной 1921 года я поехал одним из первых советских граждан за границу, Цветаева попросила меня попытаться разыскать ее мужа. Мне удалось узнать, что С. Я. Эфрон жив и находится в Праге, я написал об этом Марине. Она воспрянула духом и начала хлопотать о заграничном паспорте. Она рассказывала, что паспорт ей сразу дали; в Наркоминделе Миркнн сказал: «Вы еще пожалеете о том, что уезжаете…» Цветаева везла с собой рукопись книги «Лебединый стан».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу