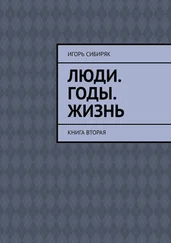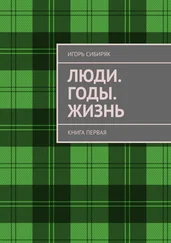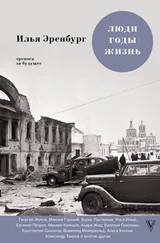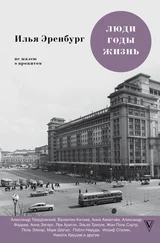Незадолго до моего приезда в Берлин исступленные националисты убили одного из руководителей партии центра - Эрцбергера. Приверженцы монархического союза «Бисмарк», не стесняясь, одобряли убийство. Законники делали вид, что изучают параграфы уложения, социал-демократы стыдливо вздыхали, а будущие эсэсовцы учились стрелять в живую цель.
Все это не мешало выдавать катастрофу за естественную, хорошо налаженную жизнь. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнеметами, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже.
Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные лома, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера…)
«Уфа» поспешно изготовляла кинокартины; они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Зрители, однако, требовали аффектации страданий, исступленной жестокости, трагических развязок. Я случайно попал на съемку одного фильма. Героиню отец пытался замуровать, любовник бил ее плеткой, она кидалась вниз с седьмого этажа, а герой вешался. Режиссер рассказал мне, что в картине будет и другой, счастливый конец - для экспорта. Не раз я видел, с каким восхищением глядели бледные, тщедушные подростки на экран, где крысы загрызали человека или ядовитая змея жалила красавицу.
Я смотрел выставки «Штурма»; передо мной были не холсты, не живопись, а истерика людей, у которых вместо револьверов или бомб оказались кисти и тюбики с красками. В моих заметках остались названия нескольких холстов: «Симфония крови», «Радиохаос», «Цветная гамма конца света». Душевный разлад требовал выхода, и то, что критики называли «неоэкспрессионизмом» или «дадаизмом», было куда более связано с памятью о битве на Сомме, с восстаниями и путчами, с манишками на голом теле, чем с живописью. У вдохновителя «Штурма» Вальдена было лицо осунувшейся птицы и длинные космы. Он любил говорить о двойниках, об интуиции, о конце цивилизации. В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками - их приносили из соседнего кафе.
Я поехал в Магдебург; фасады домов, трамваи, газетные киоски были щедро покрыты все той же истерической живописью. Во главе строительного управления города стоял талантливый архитектор Бруно Таут. Корбюзье вдохновлялся геометрией. Что ж, он жил во Франции… А Бруно Таут жил в стране, где все путалось: голод и спекуляция, вчерашние мечты о Багдаде и завтрашний поход в Индию, «пивные путчи» и рабочие восстания. (После прихода к власти Гитлера Бруно Таут уехал в Японию и обрадовался, увидав там современную архитектуру - традиционные японские дома, светлые и голые.)
Я помнил полотна супрематистов на улицах Москвы и все же в Магдебурге растерялся. Как бы ни был непривычен, норой сух язык Татлина, Малевича. Поповой, Родченко, то был язык искусства. В немецкой живописи меня стесняла литературщина, да и полное отсутствие чувства меры: холсты вопили.
Помню обложку стихов Газенклевера: человек с отчаянным лицом кричит. В поэзии свирепствовала инфляция прорицаний; и Верфель и Унру сулили миру гибель. А на улице прохожие, равнодушные к поэзии, подозрительно молчали.
Я встречался с Леонгардом Франком. Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться - и сразу исчезнет злое наваждение. Да и потом он мало менялся; ничто не могло его ожесточить. Я встречал его в годы фашизма в Париже, после войны, когда, проживая в Западной Германии, он приезжал в Берлин и дружески беседовал с писателями ГДР. Одна из его книг называется «Человек хорош»; это очень субъективная оценка - Франк узнал, что такое эсэсовцы, но он-то сам действительно был хорошим человеком.
Артур Голичер потрясал седыми кудрями. «Ты увидишь - не пройдет и года, как рабочий Берлин протянет руку Москве…»
В квартале, облюбованном иностранными мародерами и новыми богачами, которых звали «шиберами», пометалось «Романишес кафе» - приют писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток. Там можно было увидеть итальянцев, убежавших от касторки Муссолини, венгров, спасшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Моголи Надь спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатору о Мейерхольде. Там итальянские фантазеры мечтали о международном походе рабочих на Рим, а ловкачи покупали или продавали мелкие купюры долларов. Солидные бюргеры, направляясь в воскресенье на богослужение в Гедехтнискирхе, пугливо поглядывали на «Романишес кафе» - им казалось, что напротив церкви разместился штаб мировой революции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу