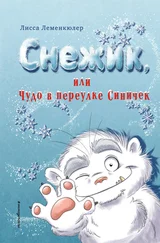– Передохнем…
Нельзя было отдыхать: скоро товарный. Журавка поднял Петьку на плечи: «Версты две осталось, донесу». Тихо спросил Петька:
– Журавка… А где же Кирюша?… Журавка помялся:
– Ну, чего тебе?… Несу ведь… А Кирюши нет… Вышел Кирюша.
Тогда Петька, хоть стыдно было это - не девчонка он,- разревелся. Не будет больше Кирюши, никогда не будет. А может, и не было его? Почудился он, как «Бубик», как корова с крыльями? Ведь говорила ему мама: «Ничего этого нет. Ты, Петька, все придумываешь…»
– А ведь был он, Журавка?
Журавка становился все мрачнее. Прикрикнул он:
– «Был»?… Думаю, «был»! Убили его, мальчик, Убили? Да, как хотели те с мамой убить Журавку.
Убили бы, если бы не Петька. А Кирюшу никто не спас. Значит, большие убивают маленьких? Почему же тогда говорят: «Вырастешь, большим будешь»? А что теперь с Кирюшей? Его засыплют землей? Страшно как…
Петька плакал. Не доплакав, он задремал - устал ведь. Молча шагал Журавка. Вот и Выполково!
Не знаю, удалось ли им сесть на товарный, не знаю, добрались ли они до «Минеральных» или погибли в пути, попали под колеса, слегли от лишений, а может быть, проученные сердобольными пассажирами, как Кирюша, остались в том же Выполкове или на другой станции. Кто знает? Не проследить за каждой судьбой. Вот идут они - впереди чернявый Чуб, за ним Журавка, а на плечах его - любимец покойного Освальда Сигизмундовича - Петька-Футурум. И сдается мне, идет это наша Россия, такая же ребячливая и беспризорная, мечтательная и ожесточенная, без угла, без ласки, без попечений, идет от Скуратова до Выполкова, от Выполкова еще куда-нибудь, все дальше и дальше, по горячей пустой дороге, среди чужих колосьев, чужого богатства. Кто встретится ей - скуратовские пассажиры или добрый, сердобольный помлекарь, и - сердце здесь останавливается, сил нет спросить - дойдет ли она?…
Летом в Проточном, как пожар в джунглях, хоть и нет у нас тигров, разве что Панкратов - отрыгивает он, выпив кваску с хреном,- жестокое лето. Пробуют люди залить огонь, но горячий банный пар идет от обдаваемых водой камней. Чем ближе лето к концу, тем чернее и гуще ночи. Воздух становится вязким, как деготь. Стоны, вздохи, потягивания лишившихся сна обывателей выползают из раскрытых окон, кишат повсюду - это личинки, из которых не сегодня завтра выйдут жуки-могильщики, «хроника происшествий», серная кислота или нож. Жарко!
Удостоился недавно наш переулок внимания. Несмотря на пекло, стали захаживать в Проточный различные инспекции. Говорю я не о фининспекторе (он и раньше знал сюда дорогу), не об угрозыске (здесь, можно сказать, его вотчина),- нет, о просветительных начинаниях. Решили в какой-то комиссии, что плохо живет Проточный, и принялись увещевать. Заборы покрылись всевозможными лозунгами. Каких только назиданий здесь не было: и «убей муху», и «береги золотое детство», даже и «покупай все в кооперации», и «не бросай газету», и даже «уважай в женщине работницу». Жулье гоготало: «Го! го! уважаем…» Персюки в восторге били мух. Рядом с абрикосовым, в доме №9, не то жил да съехал, не то предполагал только жить член коллегии, пользовавшийся машиной. Вспомнили теперь об этом и повесили дощечку «Берегись автомобиля». Фыркал Панкратов. Какие же в Проточном автомобили? В Проточном пыхтит и давит народ сам Петр Алексеевич. Берегитесь, овцы!… Говорили, что «Гигиену» обратят в клуб. Секретарь «Союза ассирийцев» нацепил на толстовку значок «Я - безбожник». Старший сын делопроизводителя ошарашил приятелей - вместо «Кирпичиков» затянул: «Буденный наш братишка, с нами весь народ…» Это все в жару!…
Оживление, однако, быстро улеглось. Слиняли афиши. Секретарь значок снял, как новый картуз: буду носить по праздникам. А делопроизводитель сынка тихохонько выпорол, хоть и уверял тот, что состоит в пионерах. «Уважай в женщине…» художник из «Ивановки» снабдил такими иллюстрациями, что даже Панкратов обмер: «Вот тебе и монпансье!…» Может быть, время выбрали неудачное - какое же тут при тридцати градусах самообразование? Так или иначе, все осталось в Проточном по-прежнему: толстокожий переулок, его ничем не проберешь. Разве это часть государства? Это - Проточный, сток, тёка, мразь, родственник и Прогонного, и Самотеки,- словом, затон, где водятся романсы, тараканы, великая отечественная хандра.
Вот уже сливы появились, арбузы. Скоро осень. Скоро будет Панкратова мочить антоновку и варить варенье из райских яблочек. Прибирает она верхний этаж: Сахаров перебрался к Верочке. Вывеска «Комильфо» за ненадобностью валяется во дворе, на нее гадят коты. На новоселье - выпьем! У Мухина «червячки», иконы, супруга в теле, граммофон, а сам Мухин плешив и сух, как полено. Надо полагать, гражданка Мухина не откажется попариться с Петром Алексеевичем в «семейных банях».
Читать дальше


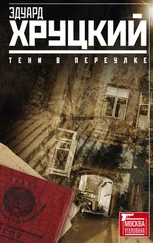




![Яков Тайц - В школьном переулке [авторский сборник]](/books/430756/yakov-tajc-v-shkolnom-pereulke-avtorskij-sbornik-thumb.webp)