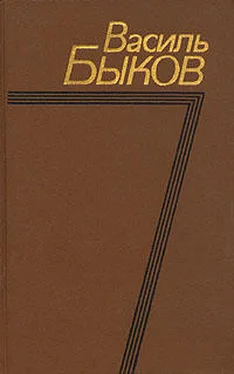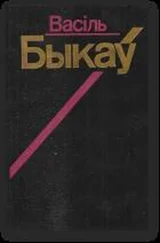— Стой! Кто идет? — привычно, с фронтовой настороженностью окликаю я, когда человек приближается, и жду.
— Свои, свои, мальчики! — слышится из лунного света, и от этого у меня снова прежней мучительно-радостной болью заходится сердце. Я поправляю ремень, пряжка которого вместе с диском сползла набок, набираю в грудь воздух, чуточку на правое ухо, как у Лешки, сдвигаю пилотку, и мои мысли направляются уже по иному пути.
Легкой, бесшумной походкой, будто ночная птица, Люся вскоре появляется возле огневой, минует окоп. Ребята вдруг оживляются. Лешка вскакивает и бросается навстречу.
— Люсик! Уже управилась? Молодчина! А мы тут ждали, ждали да все жданки съели, — радостной болтовней встречает он девушку. — Иди ко мне. Посиди немного, помечтаем о том о сем.
— Нет, мальчики, пойду, некогда. Спокойной вам ночи, — говорит она, и все во мне немо и настоятельно просит: «Останься, побудь». И в то же время я знаю, что не будет мне радости, если исполнится мое желание, но все равно я очень хочу, чтобы она осталась.
— Пойдешь? Отлично! Я провожу, — находит новую уловку Лешка и форсисто подсовывает под Люсин локоть руку. Но Люся отводит свою в сторону. — Если не против, конечно, и так далее. Не против же? Ну скажи правду?
— Не против, — смеется Люся. — Только без рук.
— Конечно! — с готовностью соглашается Лешка, но все же тихонько берет ее за плечи, и они по тропке идут в тыл.
Тогда с бруствера вскакивает Попов:
— Кто позволял? Товарищ Задорожный! Почему без разрешения?
— Ерунда, чего там! Пять минут, — слышится издалека.
Попов, видно не зная, что предпринять, неподвижно стоит на бруствере. Поодаль, за кукурузными кучками, слышится сдержанный смех Люси.
Этот смех острой завистью пронизывает меня. Я понимаю, что Задорожный плохой солдат, что нельзя так, как он, не слушаться командиров, хотя бы и временных, таких, как Попов. Но мне начинает казаться, что это непослушание делает его более сильным, самостоятельным и смелым, чем я. И мне невольно хочется стать непослушным, как Лешка, обрести его независимость, его, пусть даже и не всегда разумную, решительность. Я подозреваю в Лешке какую-то властную силу над женщинами, и теперь, думается мне, все, о чем рассказывал Лешка, так именно и было. И еще кажется, что он нравится Люсе, нравится именно тем, чего не хватает мне или Кривенку, — грубоватой самоуверенностью и, конечно, мужской силой. И я завидую ему. Я знаю Лешкину жизнь (он никогда ничего не таит от других), знаю, что он бывший футболист, человек заносчивый и не совсем честный. Ему всегда по-своему везло в жизни, может, и не очень, но во всяком случае, больше, чем мне или Кривенку. Беды обычно обходили его стороной. Однажды, рассказывал он, еще до войны в Новороссийске компания таких же, как он, сорванцов с цементного завода поймала моряка и здорово избила его широким флотским ремнем с бляхой. Бил Лешка, но когда моряки в отместку «сцапали» их в парке, то больше других влетело не Лешке, а его дружку Федьке.
Везло ему и потом, на войне. Попав под Воронежем на фронт, он, однако, не дошел до передовой, а каким-то случаем оказался в охране штабного генерала. Генерал не был строевым командиром и не очень любил разъезжать по передовой, поэтому Задорожному вместе с пятью остальными, находившимися при нем, — двумя-ординарцами, шофером, поваром и парикмахером, оставалось думать только о бытовых удобствах и безопасности начальника. Это везение продолжалось до того несчастливого утра, когда генеральская машина случайно наскочила на противотанковую мину, оставленную немцами на обочине дороги. Одних похоронили, генерала отправили в Москву, а контуженный Лешка, прослонявшись недели две в тыловом госпитале, попал в стрелковый полк. Тут он для солидности назвался танкистом, но, поскольку танков в полку не было, его послали в противотанковую батарею. Чтобы таскать пушки, нужна сила, а Задорожный поднакопил ее на генеральских харчах. Сначала он немного задавался, не очень слушался Желтых, вовсе не признавал Попова, любил вспоминать: «мы с генералом ехали» или «мы с генералом беседовали», но мало-помалу обломался, стал тише. Тем более что Желтых не очень обращал внимания на его «генеральское» прошлое.
Молчаливая и тревожная ночь плывет над затаившейся, притихшей землей. Время, видно, уже переступило за полночь, ковш Большой Медведицы повернулся на хвост, луна забралась в самую высь и светит в полную силу. Под кукурузными кучками тихо лежат четкие тени. Порой кажется, будто что-то двигается там от кучки к кучке, взгляд невольно напрягается, но я знаю: сколько ни всматривайся, ничего не увидишь. Немцы молчат. Темные горбатые холмы, словно хребтовины распростертых на земле чудовищ, едва сереют на горизонте. Моторный гул незаметно утихает или, может, отдаляется, и ночную тишину нарушают лишь редкие случайные звуки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу