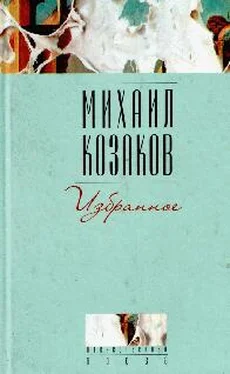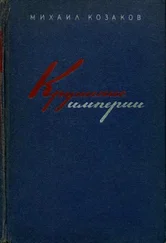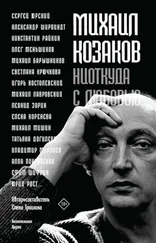Он говорил быстро, волнуясь, поглядывая по сторонам, словно думал, что кто-то еще должен был слушать его слова. Он хотел еще что-то сказать, но вдруг сорвался с места и побежал к углу. Эля увидел, как он подскочил к гражданину, нанимавшему извозчика, затем к какой-то школьнице-подростку и ее подругам.
Через минуту он возвратился.
— Вы меня простите, — заискивающе сказал запыхавшийся Шлёмка, — беседа беседой, а на хлеб нужно-таки собрать. И они мне сейчас дали, оба дали, и оба русские. Что вы на это скажете? Они меня не посылали в Бердичев… — удовлетворенно, но все же, по привычке, подобострастно, как показалось портному, воскликнул нищий.
После случая в фабричном сарае он больше недели не показывался на улице.
Первое время портной Рубановский осведомлялся о Шлёмке у сребробородого старика, а потом поневоле забыл о нем, потому что в это же время в жизни Эли Рубановского и его семьи произошли события, надолго оставшиеся у него в памяти.
Нам же эти события дают основание подумать вместе с внимательными и чуткими читателями о правильном и достойном окончании рассказа.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Синее ясное утро, принесшее смерть
— Это позор, Николай!
— Скандал, безусловно.
— Средневековье! Что-то древнее… мохнатое.
— Пожалуй, напоминает… Не исключена возможность еще и худшего. Уверяю тебя.
Если бы это был не рассказ, а пьеса, и если бы постановщик, не дочитав ее до конца, захотел бы разметить роли для участников своей труппы, он выбрал бы среди них двоих резонеров, и один играл бы Мирона Рубановского, а другой — старшего юрисконсульта Вознесенского.
Он, постановщик, кроме того, был бы недоволен еще и тем, что драматург пренебрег явно складывавшейся возможностью развить и усилить положенье в пьесе еще одного действующего лица: Надежды Ивановны, Рубановской.
Он, постановщик, и в том и в другом случае был бы прав. Счастье наше, что это не пьеса! Счастье еще и потому, что
странен и необычен для автора рассказ этот, ибо там, где поставлена будет подпись повествователя и останется незаполненным белое место в книге, — там нет конца еще этому рассказу.
Пусть, кто хочет, соберет все, выплеснутое здесь из записной книжки автора, пусть не запоминает даже имен и фамилий, названных здесь, и глаз, и профессии, и возраста каждого, — пусть, если услышал, вспомнит только слово его или действие и, поступив так, творит сам и по-своему до конца рассказ этот…
Тогда будут в нем новые герои-люди, и «главными» будут другие, а «второстепенными» совсем не те и не такие, как в нашем рассказе, и у новых и других будут характеры и поступки различны, но мысль — узнает себя здесь…
И, не утеряв ее, напишет кто-то, — или расскажет, или только подумает, — о том, как это мохнато-древнее и темное набрасывает часто холодную и колючую цепь свою на тело человеческой любви и — скованной — бросает ее, любовь, в пустоту отчаяния, как вливает оно зелье немощи и сомнений в поставленные рядом чаши дружбы, как исподволь кладет оно в руку человека отточенный ненавистью нож — для утоляющей крови, для смерти… Прочь!
Постановщик допустил бы ошибку. К концу пьесы образ одного из резонеров претерпел изменения, и в его руках оказалась вдруг та самая роль, которая стала выигрышной для актера: в ней было действо.
О, если бы мог предвидеть его осторожный и рассудительный Эля Рубановский!
Если бы только в его силах было предотвратить поступок сына, — он, благоговеющий и робкий отец, осмелел бы, решился бы, и тогда, может быть, сдержал бы гневную руку Мирона тем, что сказал бы ему, открыл бы ему то, что вот уж восемь лет таит в себе седенький любящий Эля…
А вот случилось так, что сказал, — но было уже поздно. А тот, кому поведал об этом же раньше, — тот был чужим, совсем чужим и ненужным.
Горе и неприятности обрушились на портного Рубановского в течение нескольких дней.
Умер старик Акива.
В день смерти он медленно вышел во двор и уселся, по обыкновению, на крылечке. На руках у него была Цукки.
Кошке, как и старику, были приятны солнце и опущенное им к земле тепло, повисшее над ней на миллиардах ослепительных золотых нитей, расчесанных до небывалой ясности незримой гребенкой июньского синего утра.
Высоко в небо уходил, бросая вниз сверкающий перламутром белый взмах крыла, плавный, неторопливый голубь.
Тих и спокоен был нервный и чуткий лист тополя, душист и мягок — в саду — сирени и гладкого и по-девичьи округлого ореха. По зеленым и зыбким, колышущимся качелью, тоненьким веткам подростка-деревца — прыгали и легкомысленно судачили серенькие пугливушки-воробьи; словно как пьяный или страдающий одышкой, спотыкаясь в воздухе, брюзжа и гудя, — перебрасывался с одного места на другое короткокрылый, закованный в броню смуглоусый жук.
Читать дальше