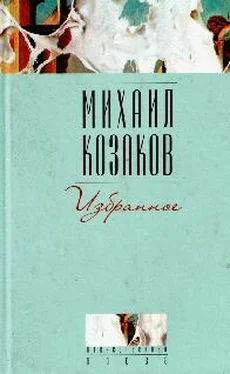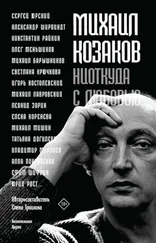Толпа громко и возбужденно хлопала, но кто знает чему?
Иоська и Базулин растерянно улыбались друг другу, толпе, караульным красноармейцам. Один из судей ловко спрыгнул с эстрады в зал и подошел к подсудимым.
Так же, как и они, смущенно он посмотрел на обоих и добродушно сказал:
— Нет, поймить, братцы, сами: ежели не шутя, — так что есть вам сейчас за приговор? Скажить, пожалуйста. По совести ежели и… безо всякой обиды?…
Было у кавалериста круглое, как яблоко, румяное безволосое лицо с тихими степными глазами и в лице была — порча: в одной — впалой от шрама щеке вырезан был ломоть молодого мяса.
Запомнил Степан Базулин это лицо, — пришлось еще раз в жизни его увидеть. Иоська вновь заметил спускавшегося со сцены командира полка, и с благодарностью подумал в тот момент Иоська, что, вероятно, он, этот человек с аккуратной, шелковистой бородкой, вспомнил там, за кулисами, о какой-то неожиданно спасшей «инструкции»…
К днепровским порогам, к югу ушли кавалеристы, а Иоська с Базулиным считать дни стали в смирихинской тюрьме.
Сначала сидели в «одиночке», потом в тюрьме стало тесно от вновь прибывшего всякого люду, — их перевели в «кают-компанию», как называл общую камеру сидевший за казнокрадство матрос Заруда.
В камере было двадцать семь человек, и, не считая Иоськи и Базулина, пятеро, как и они, ждали расстрела.
У Заруды сиплый голос, черный, как агат, и придавленный широкой ветвью брови злой, запихнутый вглубь, узкий глаз, — и шутит Заруда зло, с издевкой:
— Семеро ваших нездешних душенек, как днёв в неделю, Семь днёв в неделю, и на каждый денек — дежурненького к стенке. Необрезанных — в будни стрелять, а нехристя Иоську под православное воскресенье…
Хотя и привык Иоська к этим шуткам матроса, но всегда, когда слышал их, долго не мог отделаться от изнурительного чувства страха перед каждой предстоящей ночью, таинственной и зловещей, вырывавшей время от времени чью-либо человеческую жизнь.
В тюрьме, в камере, каждый час дневного света казался «смертникам» недолгим обнадеживающим гостем, — и с утра спокойней становилось Иоське Кацу (и так — на весь день), а ночью — сбегалось все тело в настороженный топорщащийся комок, живший острием ослепшей горячей мысли.
Тихо, молча, лежал Иоська на нарах в томительном ожидании утра — верного союзника жизни всех семерых смертников. И ночью не было большего врага для каждого из них, чем остальные шестеро, потому что ночь, словно таинство совершающий жрец смерти, должна была в каждый приход свой выбрать одного кого-то из семерых: в тишине и теми неслышно кричала в людях и незримо горела факелами в их сердце друг к другу ненависть. Но чуть бледнел ночной покров, — она мгновенно исчезала в успокоенном человеческом сердце, и глаза всех смотрели виновато и сочувственно-робко.
И когда приходило утро, сипло говорил Заруда, смерти не ждавший:
— Прошла ночь — словной скупой по базару: безо всякого «расходу»!
Из всех обитателей камеры первым расстреляли — его. Не ждал того матрос: днем водили на допрос в смирихинскую «чека», а ночью пришли неожиданно и вызвали по фамилии:
— Заруда! Собирайсь…
Фонари осветили камеру, — и увидели разбуженные арестанты: перекосилось все Зарудино лицо, узкий глаз выполз наружу и застыл черным стеклом, а крупный заросший рот жалобно отвис, как продранная биллиардная луза.
Всегда дерзкий и грубый в отношениях с товарищами по камере, тугой по нраву и всегда самоуверенный — он, после секундного оцепенения, громко, по-ребячьи заплакал теперь и растерянно тыкался по камере, обнимал дрожавших, как и он, арестантов и все время бессвязно и монотонно повторял:
— Да что же это, братцы… товарищи, а? Кто ж еще за революцию… а? Сам буржуев стрелял… рази можно теперь?…
А когда уходил из камеры, проявил какую-то неожиданную в такую минуту расторопность и житейскую деловитость: забрал с койки бушлат, все белье свое и чужую бутылку с водой.
Было это дождливой осенней ночью — страх был у Иоськи глубже дна речного, но уже утром Иоська шутливо вспоминал Заруду:
— Отец, — спрашивал он своего молчаливого товарища. Скажи мне, по какой причине матросу бутылка сдалась: чи у него, может, жажда была опосля тараньки, что на ужин давали?…
Камера посмеивалась, но хмуро и сдержанно.
— Убей меня Бог, я не понимаю! — был доволен своей шуткой Иоська. — Как он взял эту бутылку, — так, думаю, никакой такой опасности ему, может, и нету: просто переводят человека в другое место… А как велело ему начальство бутылку нам оставить, тут поверил я в Зарудину смерть.
Читать дальше