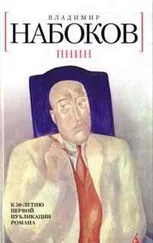В полдень Пнин по обыкновению вымыл руки и голову.
Из кабинета Р он забрал пальто, кашнэ, книгу и портфель. Д-р Фальтернфельс писал и улыбался; его сандвич был наполовину развернут; собака его околела. Пнин спустился мрачной лестницей и прошел через Музей Ваяния. Здание Гуманитарных наук, где, впрочем, ютились также Орнитология и Антропология, соединялось с другим кирпичным зданием, Фриз-Холлом, где помещался профессорский клуб, посредством довольно затейливой решетчатой галлереи: она сперва поднималась отлого, потом круто поворачивала и брела вниз, навстречу будничному запаху картофельного хвороста и скучного рационально сбалансированного стола. Летом ее шпалеры оживлялись трепещущими цветами; но сейчас ее наготу насквозь продувал ледяной ветер, и кто-то надел найденную красную рукавицу на трубку мертвого фонтана, от которого ответвление галлереи вело к дому президента.
Президент Пур, высокий, степенный, пожилой человек в темных очках, начал терять зрение года два тому назад и теперь почти совсем ослеп. Однако он с постоянством солнца ежедневно появлялся в Фриз-Холле, ведомый своей племянницей и секретаршей. Он входил с величавостью античной статуи, шествуя в своей собственной тьме к незримому завтраку, и хотя все давно привыкли к его трагическому появлению, а все-таки пока его подводили к его резному стулу и он ощупывал край стола, неизменно набегала тень тишины; и странно было видеть прямо позади него, на стене, его стилизованное изображение в сиреневом двубортном костюме и терракотовых башмаках, глядящее сияющими фуксиновыми глазами на свитки, вручаемые ему Рихардом Вагнером, Достоевским и Конфуцием,- эту группу лет десять назад Олег Комаров из Отделения Изящных Искусств вписал в знаменитую фреску Ланга 1938 года, которая вела кругом всей столовой процессию исторических лиц и Уэйндельских профессоров.
Пнин, желая кое о чем спросить своего соотечественника, сел с ним рядом. Этот Комаров, сын казака, был коротенький, коротко остриженный человек с ноздрями, как у черепа. Они с Серафимой, его крупной, радушной москвичкой-женой, носившей на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, который свисал до ее большого, мягкого живота, время от времени устраивали «русские» вечера, с «русскими» закусками и гитарой и более или менее фальшивыми народными песнями – и там застенчивых аспирантов обучали обряду вкушения водки и прочим затхлым русским обычаям; и, встречаясь после таких пирушек с неприветливым Пниным, Серафима и Олег (она – возводя глаза к небесам, он – прикрыв свои рукою), бывало, бормотали, благоговейно изумляясь собственной щедрости: «Господи, сколько мы им даем!» – разумея под «ними» темных американцев. Только другому русскому была понятна эта смесь черносотенства с советофильством, свойственная псевдокрасочным Комаровым, для которых идеальная Россия состояла бы из Красной Армии, помазанника-государя, колхозов, антропософии, Русской Церкви и гидро-электростанций. Пнин и Олег Комаров обыкновенно находились в состоянии приглушенной вражды, но встречи были неизбежны, и те из их американских коллег, которые считали Комаровых «чудными людьми» и передразнивали чудаковатого Пнина, были уверены, что живописец и Пнин большие друзья.
Не прибегая к очень специальному исследованию было бы трудно сказать, кто из них, Пнин или Комаров, хуже говорил по-английски; пожалуй, Пнин; но по причине своего возраста, общего образования и чуть более давнего американского гражданства он находил возможным поправлять частые английские интерполяции Комарова, и Комарова это бесило даже больше, чем «антикварный либерализм» Пнина.
– Послушайте, Комаров,- (несколько бесцеремонное обращение) сказал Пнин.- Я не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга; уж наверное не моим студентам, а если вам, то не понимаю, к чему она вам,
– Ни к чему,- ответил Комаров, мельком взглянув на книгу.- Нот интерестид (Не интересуюсь),- добавил он по-английски.
Пнин раза два беззвучно пошевелил губами и нижней челюстью, хотел что-то сказать, не сказал и снова принялся за салат.
Был вторник, и, значит, он мог пойти в свое излюбленное прибежище сразу после завтрака и оставаться там до обеда. Библиотека Уэйндельского колледжа не соединялась никакими галлереями с другими зданиями, но она была сокровенно и прочно соединена с сердцем Пнина. Он шел мимо огромной бронзовой статуи первого президента университета Альфеуса Фриза – в спортивной кепке и бриджах, держащего за рога бронзовый велосипед, на который он был обречен вечно собираться сесть, судя по его левой ноге, навеки приклеившейся к левой педали. Снег лежал на сиденье, снег лежал в нелепом лукошке, которое какие-то недавно проходившие проказники повесили на руль. «Хулиганы», негодовал Пнин, качая головой – и слегка поскользнулся на плитняке дорожки, извилисто сбегавшей по муравчатому скату среди безлистых ильмов. Помимо толстого тома под правой рукой он нес в левой свой старый, среднеевропейского типа, черный портфель, и мерно покачивал его на кожаной скобке, шагая к своим книгам, к своей рабочей келье среди стеллажей, к своему раю русской литературной стихии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу