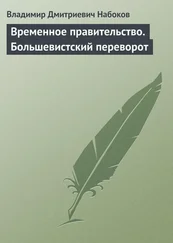Владимир Набоков - Память, говори (пер. С. Ильин)
Здесь есть возможность читать онлайн «Владимир Набоков - Память, говори (пер. С. Ильин)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Память, говори (пер. С. Ильин)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Память, говори (пер. С. Ильин): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Память, говори (пер. С. Ильин)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Память, говори (пер. С. Ильин) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Память, говори (пер. С. Ильин)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Веселой и резкой трелью свистка, украшавшего мою первую матроску, зовет меня мое детство в далекое прошлое, на возобновленную встречу с моим чудесным учителем. У Василия Мартыновича Жерносекова была курчавая русая борода, плешь и фарфорово-голубые глаза, с небольшим интересном наростом на одном (верхнем) веке. В первый день он принес мне коробку удивительно аппетитных кубиков с разными буквами на каждой из граней; обращался он с этими кубиками словно с редкостными драгоценностями, чем, впрочем, они и были (не говоря уж о том, какие великолепные туннели выстраивались из них для моих игрушечных поездов). Отца моего, незадолго до того отстроившего и усовершенствовавшего сельскую школу, он почитал. В знак старомодной приверженности к вольномыслию, он носил мягкий черный галстук, повязанный небрежным бантом. Ко мне, ребенку, он обращался на вы, – не с натянутой интонацией наших слуг и не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери, когда оказывался у меня жар, или когда я терял самого крохотного пассажира моего поезда (словно хрупкое “ты” не могло бы выдержать груз ее обожания), – но с учтивой простотой взрослого, говорящего с другим взрослым, которого он знает недостаточно коротко, чтобы ему “тыкать”. Ярый революционер, горячо жесткулируя, он говорил во время наших полевых прогулок о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о печальной (но интересной, как мне представлялось) необходимости взрывать тиранов на воздух, порой вытаскивая популярную в ту пору пацифистскую книгу “Долой Оружье!” (перевод “Die Waffen Nieder!” Берты фон Зуттнер) и потчуя меня, шестилетнего, скучными цитатами; я же пытался их опровергнуть – в этом нежном и воинственном возрасте я горячо восставал в защиту кровопролития, сердито спасая свой мир игрушечных пистолетов и артуровых рыцарей. При ленинском режиме, когда на всех радикалов-некоммунистов обрушились безжалостные гонения, Жерносекова сослали в трудовой лагерь, однако он смог бежать за границу и умер в Нарве в 1939 году.
Отчасти ему я обязан способностью следовать и дальше по личной тропе, бегущей пообок дороги этого беспокойного десятилетия. Когда в июле 1906 года царь, нарушив Конституцию, распустил Думу, некоторое число ее депутатов, и мой отец среди них, собралось на беззаконную встречу в Выборге и опубликовало воззвание, призывавшее народ к неповиновению правительству. Спустя года полтора их посадили за это в тюрьму. Отец провел три безмятежных, хоть несколько и тоскливых месяца в одиночной камере, со своими книгами, складной резиновой ванной и копией руководства Д.Р. Мюллера по домашней гимнастике. До конца своих дней мать хранила письма, которые он ухитрялся ей передавать – веселые послания, написанные карандашом на туалетной бумаге (я опубликовал их в 1965 году, в четвертом номере русского альманаха “Воздушные пути”, издаваемого в Нью-Йорке Романом Гринбергом). Мы были за городом, когда его выпустили; именно сельский учитель и руководил праздничной встречей, украсив дорогу от железнодорожной станции приветственными флагами (среди которых попадались и откровенно красные) под арками из еловых веток, коронованных васильками, любимыми цветами отца. Мы, дети, выехали навстречу, в село, и вспоминая тот день, я с предельной ясностью вижу искрящуюся на солнце реку, мост, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на его деревянных перилах; холм с липами, розовой церковью и мраморным склепом, в котором покоились предки матери; пыльную дорогу через село, с бобриком светлой травы в песчаных проплешинах между нею и кустами сирени, за которыми шатким рядком стояли замшелые избы; новое, каменное здание школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собачонку, выскочившую откуда-то из-за изб с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай для короткой, заливистой вспышки, которой она потешит себя, когда, после безмолвной пробежки, очутится вровень с коляской.
5
В это необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фантастическим богатством. Не раз случалось, что летом, во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой на первом этаже вырского дома, буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом (особенно тихим при гостях) сообщая, что пришли мужики и просят “барина” выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из западных окон столовой выходило на край подъездной дорожки у парадного входа. Видны были верхушки жимолости, росшей насупротив крыльца. Оттуда доносилось учтивое жужжание мужиков, невидимая гурьба приветствовала моего невидимого отца. Из-за жары окна, под которыми происходили переговоры, были затворены, и нельзя было разобрать смысл их. Крестьяне, верно, просили отца умерить какую-нибудь местную распрю или ссудить им на что-либо денег, или разрешить покосить немного на нашей земле или срубить какую-то, позарез им нужную купу наших деревьев. Если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и доброго “барина”, по старинному русскому обычаю, дюжина дюжих рук раскачивала и подкидывала несколько раз, и безопасно ловила.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Память, говори (пер. С. Ильин)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Память, говори (пер. С. Ильин)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Память, говори (пер. С. Ильин)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.