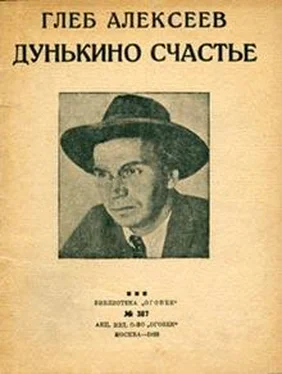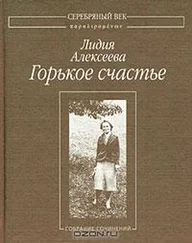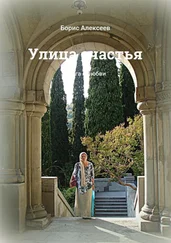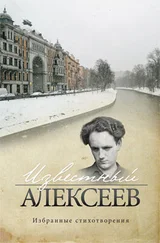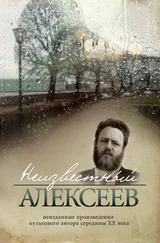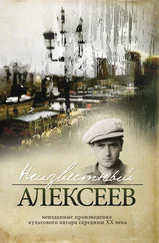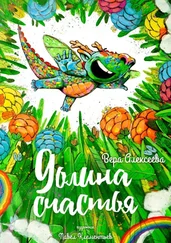— Жизнь ты мне принесла, аль смерть? — спрашивает меня, а в глаза мне не глядит, будто я знаю, про что письмо написано .
— Вскрой, — кричит, — сама вскрой.
Распечатала я то письмо, глянула она цепким оком, ка-ак бросится мне на шею! «Никогда, — кричит, — этот прекрасный момент я тебе не забуду!» И вдруг заслабла совсем, легла на траву, еле дышит. «Поцелуй, — говорит, — ты мене, крепче, поцелуй, чтоб душу выпить!» Поцеловала я её, бьётся она в моих руках, как овечка, и глазки закрывает. А я, конечно, соображаю про себя: «Ну, пришёл, наконец, решающий день жизни, надо подкову ковать, уедет она теперь, обязательно уедет назад в Москву, и останусь я люльки качать!» — подумала так, — ка-ак зареву…
— Что ж ты, — говорит, — плачешь, сестра моя? Теперь радоваться надо!
А я сквозь слёзы:
— Уедете вы, Клавдия Ивановна, и про все наши цветочки забудете, останусь я своё немудрое счастье ковать, и закуюсь в маменькины, да в свои люльки на всеё жизнь, и завянет моя душа, которая, может быть, тоже мечту имеет…
— Глупая, — отвечает и смеётся, — глупая ты… приезжай ко мне, я тебе очень даже устрою… Вот, — говорит, — мой адрес, прижмёт тебе невтерпёж — напиши мне письмо. Я, — говорит, — благодаря тебе, может быть, ума не решилась… А добро разве забывается?
А мне только этого и нужно. Спрятала адрес подальше, и стали мы с того дня к отъезду готовиться. Хожу я, словно неумытая, в глаза ей печально смотрю, а то уткнусь в коленки и плачу. Тут же вскорости она и уехала…
— …Постойко-сь, я кофейку подварю. Ты, девушка, не отказывайся, да и я с тобой в компании чашечку выпью.
Уехала она так-то из Зелёной Слободы, а для меня, — веришь ли? — словно звёздочка закатилась. Оно, конечно, может, и дожила бы я свой век в Зелёной Слободе, и наверно подходяще дожила бы… Ну, вышла бы за Андрюшку, ну, оттягала бы сётаки у тятеньки лошадь с хомутом — теперь и женчине в деревне мужские права дадены, — нет! вступила мне в голову после отъезда Клавдии Ивановны мечта со всей невозможностью, не могу хладнокровно смотреть на наше житьё, да и всё тут! В поле выйду — серп в руках верёвкой заплетается, в ухо словно дьявол какой шепчет, и всё башмачки её в глазах мельтешут. И стала я детишек почем зря шпынять: мало вам матери, меня сосёте! Тому, бывалача, пинка загвоздишь, того крапивой причешешь, а тут ещё горе горькое пало на бедную мою головушку, словно роса на цветок… Улестил ведь меня Андрюшка-то! До сей поры не могу в толк понять, отчего тая беда приключилась, а только пошла я с ним в лес по хворост, и нарушил он меня, сиротинушку, почём зря… И то сказать: первый насмешник в деревне и гармонист, из себя всегда аккуратненький, сапожки лаком, рубашечка нараспашечку, и привёз с войны замечательные брюки-клёш…
— Ты, — говорит, — не сумлевайся, если что — я на тебе и жениться могу!
— Ирод, — говорю ему, — ирод ты, сукин ты сын, да на мне всякий человек женится, потому нет супротив меня во всей округе девки, а мешает мне с тобой век скоротать мечта…
— Какая же, — спрашивает, — у вас, Евдокия Степановна, мечта? Может, ваша мечта под мою подходит, потому я, — говорит, — тоже для своей жизни не мерзавец, и очень даже к ней, собачке, за время военно-гражданских моих подвигов внимательно присмотрелся…
— К чему это, — спрашиваю его хладнокровно, — ты присмотрелся-то, подлец ты эдакий?
— Я, — отвечает, — всегда, когда мне в мёртвую схватку с глазу на глаз с человеком идти приходилось — то ли в ерманском каком окопе, то ли в гражданских моих подвигах — всегда, — говорят, — как прижмёшь его, сукинова сына, к гробовой доске — всё норовишь, бывало, душу ему наизнанку вывернуть… Какая она у него, недотрога? А вообще, — говорит, — Евдокия Степановна, я держусь такого взгляда, что душа — пар: сколько я этих душ загубил, а ничего хорошего про то не увидел…
А сам дымок поверх усов пускает и небрежно бьёт хворостиночкой по лаковому сапогу. И поняла я тут: заражённый он парень, все они, ироды, с войны помутнелые пришли и никак правильного пути-дороги отыскать не могут.
— Нету, — говорю, — Андрей Михалыч, у нас с вами общего пути, вам — остепениться надо, а моя дорога к другой мечте лежит, мне, — говорю, — всё с рубашки начинать надо, не говоря уже о полсапожках… а была, — говорю, — у меня одна богатства — девичья моя честь, да и той лишили вы меня почём зря!
— Ну, — отвечает, — эта богатства немудрёная, если, — говорит, — чего такого — я завсегда ответ готов держать, и жениться на вас могу с полным уважением, будто, — говорит, — вы не нарушены, и в целости себя соблюли…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу