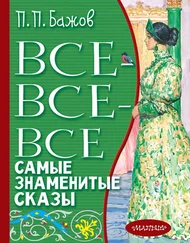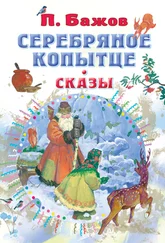— Почему простыня грязная, когда в сундуке две запасных? Зачем руки под одеялом держишь, когда всякий настоящий мужчина должен приучаться держать их открыто? Как складываешь одежду? Штаны на стул, рубаху под стул, а пояс где придется?
Это значило, что инспектор побывал ночью и запретил хозяйке рассказывать нам об этом.
Мы, разумеется, не любили Антипку, но теперь, задним числом, думаешь, что человек работал добросовестно, старался привить нам полезные навыки и держал в узде квартирохозяев по части обслуживания и питания, так как в любой день можно было ждать: «зайдет пообедать», «поужинать», «попить чайку». Свирепое отношение к великовозрастным, «прорвавшимся в винопитии» и обижавшим младших, было тоже понятно, так как «ранняя вода» и «культ кулака» были главным злом старой бурсы.
Была лишь одна черта, которая нравилась в инспекторе и тогда: он любил устраивать чтения. Это особенно ярко выступило потом, когда все квартирные были переведены в общежитие. Там после ужина, когда оставалось езде часа полтора свободного времени, он открывал эти чтения в зале. Чаще всего читал сам, и всегда классиков:
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и так далее. Не сторонился нового, что тогда появлялось в печати. Отчетливо, например, помню, что «Кадеты» Куприна впервые услышал на одном из этих чтений.
Предполагалось, что, кроме инспектора, квартиры должен посещать и смотритель училища, но это уже была легенда. Смотрителем в те годы был И. Е. Соколов, тот самый, о котором не раз, как о своем лучшем преподавателе, вспоминал Д. Н. Мамин-Сибиряк. Никита Савельич, учившийся одновременно с Маминым-Сибиряком, говорил о Соколове менее лестно, но все-таки считал его хорошим преподавателем.
Но с той поры прошло около тридцати лет, и бывший хороший преподаватель семинарии стал скорее забавным, чем страшным смотрителем духовного училища. Звали его «Старый петушок». В отличие от других, он всегда ходил во всех крестах и медалях и непременно в своей бархатной камилавке. Причем убор этот всегда был исправен, с незахватанным бархатом. По этому поводу шутили:
— Так он же никогда не снимает. Как с утра надел, так и до вечера.
Другие объясняли иначе:
— На каждый месяц новые камилавки заказывает, а старые для хозяйства идут: цыплят в них держат, яйца — тоже. Сам видел: полный угол.
Ученические квартиры смотритель никогда не посещал И даже не знал в лицо учеников тех классов, где ему приходилось заниматься. Но все-таки он иногда «выступая с речью». Даже малыши, еще не вполне понимавшие, в чем здесь дело, удивлялись этим речам. Вел он их всегда с пафосом, размахивал руками, потрясая крестами, и неизбежно декламировал какую-нибудь часть из державинской оды «Бог»:
О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Хриповатый голос, жиденькая бороденка, ставшие непонятными слова и преувеличенная жестикуляция — все это производило странное впечатление старины. Перед нами выступал именно преподаватель элоквенции и риторики уже в те годы, когда эти названия употреблялись в ироническом тоне. Смотрительские речи не столько слушали, сколько смотрели, как лицедейство, которое потом пародировалось и немало потешало ребят.
Из воспитательного воздействия оды «Бог» помню лишь ходовую инсценировку к одному стиху:
«Я царь» — солдатская выправка, строгое лицо, плечи приподняты, обе руки на высоте груди, одна зажата в кулак, другая полураскрыта ладонью вверх. Предполагается: в одной скипетр, в другой — держава.
«Я раб» — ноги, согнутые в коленях, руки повисли, голова опущена, лицо печальное.
«Я червь» — спина и шея продольно искривлены, вытянутая вперед рука делает «ползательные движения».
«Я бог» — голова откинута вверх, глаза выпучены, руки распахнуты, обнимая весь мир.
Сам декламатор оды оказался рабом… стяжательства. В то время, как я узнал потом, особая комиссия уже занималась исследованием двух совпадений: смотритель училища приобрел себе двухэтажный дом с мезонином, а строительство общежития на углу Уктусской и Александровского [33]велось медленно и плохо. Расследование шло без спешки и огласки и могло бы кончиться ничем, если бы не вмешался «Антипка косолапый», который «донес на следователей». В результате декламатора выперли на приход за город, где он мог в церковных проповедях показывать образцы бурсацкой элоквенции семидесятых годов, чем немало удивлял богомольных старух.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

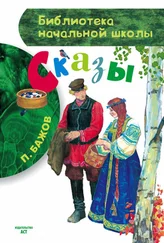
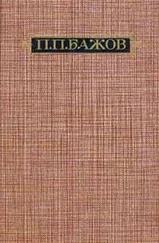
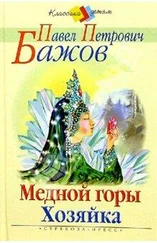
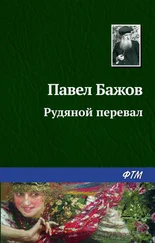
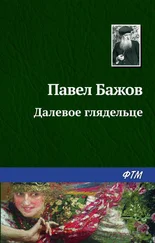
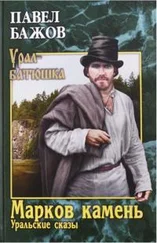
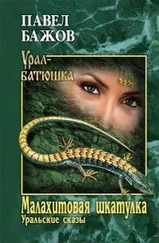
![Павел Бажов - Малахитовая шкатулка [Уральские сказы. Илл. А.Н. Якобсон]](/books/419299/pavel-bazhov-malahitovaya-shkatulka-uralskie-skazy-thumb.webp)