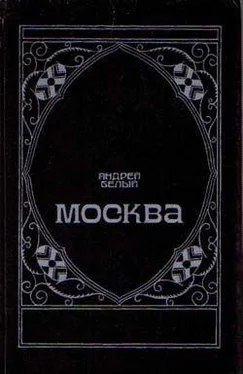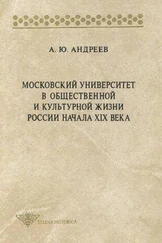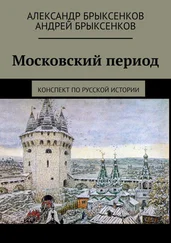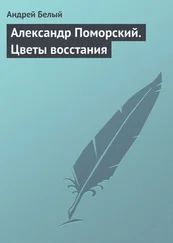Профессор тащился рукой за платком. В то же мгновенье сомненье его посетило: он – вычихнул:
– У петуха – чорт дери – сколько ног? – он уставился в Киерко.
– Три – говорят!
– Нет, позвольте-с, – профессор обиделся даже, – я знаю, что – две.
Почему же он спрашивал?
Вдруг он поморщился.
– Руку жует что-то мне.
И потрогал свободной рукой висящий свой кутыш.
Когда ушел Киерко, стал он копаться в своих вычислениях, выщипнул две-три бумажки из кипы, на ключ запер дверь, сел на корточки, угол ковра отогнул, вынул малый паркетик (тот самый, который, он знал, – вынимается): и под паркетик запрятал бумажки: на этих бумажках крючки начертили суть жизни его; почему же не свез в стальной ящик он сути открытия? Не догадался, – не знал, может быть, что такая есть комната в банке, где ящик стальной покупали.
Он многого вовсе не знал: угол повара с ним путешествовал всюду.
***
В те дни пережил настоящее горе.
С раздувшимся брюхом, с отшибленной лапой Томочку-песика раз принесли: раздавила пролетка; сложили, смочили свинцовой примочкою, перевязали огромными тряпками: он, перевязанный, молча дрожал, закосясь окровавленным взглядом: профессор весь вечер над ним просидел на карачках:
– Что, брат, – тебе трудно?
А ночью бродил по ковру: утром пес приказал долго жить: очень плакала Наденька. Спорили:
– Надо к помойке нести!
– Что вы, что вы, – взварился профессор: взъерошился весь, – вырыть яму в саду!
Было сделано: Томку несли зарывать, а профессор Коробкин, оставшийся в доме, им рявкал в окошко:
– «Не бил барабан перед смутным полком, когда мы… – споткнулся он: – пса хоронили»…
И вечером всем он доказывал:
– Индусы, в корне взять, верят, что души животных опять воплощаются: в нас; да-с – по их представлениям, пес, говоря рационально, опять воплотится.
– Э, э, – брехунцы, – посипел своей трубочкой Киерко
Наденька верила:
– Может быть, песик вернется к нам: мальчиком. Да, костогрыз приказал долго жить.
Вот и стала Москва-река.
Салом омутилась, полуспособная течь, пропустила ледишко: и – стала всей массой своей: ледостаем блистающим.
Зимами весело! Крыты окошки домов Табачихинского переулка сплошной леденицею: массою валит охлопковый снег: обрастают прохожие им; лют-морозец обтрескивает все заборики, все подворотенки, крыши, подкидывая вертоснежину, щупая девушек, больно ущемливая большой палец ноги; и – дымочком подкудрены трубы; обкладывается снежайшими и морховатыми шапками синий щепастый заборик; сгребается с крыш; снег отхлопывает от угольного пятиэтажного дома на весь Табачихинский переулок: под хлопищем – сходбище желтых и рыжих тулупов.
– Стужайло пришел: холодай холодаевич. Виснут ветвями деревья вкруг серо-зеленого дома: затылки статуек фронтона в снегурках; подъездную ручку попробуешь – липнет от холоду; там же, где тянется сниженный набок, поломанный старый забор, в слом забора глядят не трухлявые земли, как летом, нет, нет: урожаи снегов обострились загривиной белою: а из ворот, где домок прожелтился, стекает сплошной ледоскат, обливающий улицу скользью, едва пропорошенной сверху.
Там бегал дворняк: волкопес; и мешал двум поденным (их наняли снеги разбрасывать, скалывать лед).
– Пошла, гавка!
Один из поденных, – Романыч, веснушчатый, красно-волосый мужик, с непромытым лицом (на морщиночках – чернядь), – здесь жил на дворе: в трехэтажном облупленном доме; лопатою снег разгребал; а другой, в куртке кожаной и с чекмарями, такой челюстистый, – рабочий заводский, с квадратным лицом и с напористым лбом, с твердым взглядом, – долбежил по льду малым ломиком: Клоповиченко.
К ним Киерко вышел в тулупчике (жил в трехэтажном облупленном доме); хлобучил шапчонку, бил валенком
– Есть здесь лопата? А ну-те-ка, – с вами я. Киерко цапко лопатой подкидывал снеги: кидала кидалой.
Рвануло отчаянным ветром: сугробы пустились враскрут; густо, грубо сквозь вой под трубой кто-то охал, стихая сквозь белую вею подкинутых вихрями визгов; и струи кипучие там над волной снеговою взвевались; и – веяли, и – выкидывалися: из взвинченных визгов.
Так сиверко.
Клоповиченко рассказывал Киерко под обзеркаленным жолобом, ломик отбросивши:
– Где им понять! Щегольки… А туда ж, – социальные взгляды подай; мы – тяжелки: нам дай социальные взгляды, – не им; мы в сермяжных кафтанах, в огрехах, плетемся на явку, они появляются в полуботинках: да что – пустопопову бороду брей!
Читать дальше