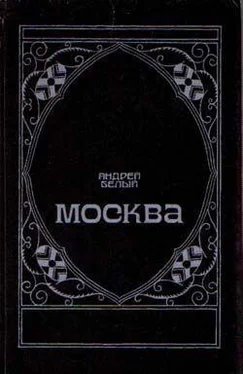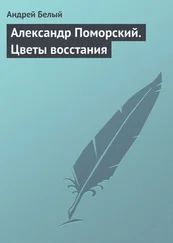– Там элда: тлясётся.
– Что?
– Элда: на цто все стояйт, – сказал с задержью, свесив беспомощно руки (на сгибени пальцев – предлинные, желтые, свежепромытые ногти, не наши, а – дальневосточные).
– Что эта «элда»? – мизюрилась Наденька, щелкая праздно фисташками. – А, да – поняла: «элда» значит – земля: это он о земле…
Азиат!
– Да, вы – бедный народ!
– Ну-с, – поднялся профессор, – сидите, а я пойду, в корне взять, перед прогулкой соснуть – минут на десять… Нет-с, вы сидите, – почти что прикрикнул на Нисси, увидев, что тот поднялся. – Я вас, батюшка, не отпущу: покажу вам Москву-с…
Бедный: эти последние дни так замучили мысли, что он за японца схватился, чтоб с ним подрассеяться; он – заслуженный профессор, «пшеспольный» там член, академик, почетный член общества, прочая, прочая, прочая, – он был подпуган; гремел на весь мир, а боялся – Мандро.
Где закон, охраняющий ценную жизнь замечательной этой машинки природы? И есть ли закон, если жизнь этой личности определяется сетью ничтожных по ценности, страшных по цели интриг: ведь Ивана Иваныча, как национальную, даже как сверхнациональную ценность должны б заключить в семибашенный замок из кости слоновой, таскать на слонах, окружив самураями: математический богдыхан, далай-лама, микадо!
Так думаем вовсе не мы, – Исси-Нисси…
А он, между нами сказать, – под оглоблями бегал: де-ла-с!
____________________
Василиса Сергевна скрылась.
– Хотите, пройдемте-с по садику?
Наденька с Нисси – прошли; над просохом серебряным встали:
– Здесь Томочка-песик наш: похоронили его… Колебались причудливым вычертнем тени от сучьев; и
первая, желто-зеленая бабочка перемелькнулась к другою – под солнцем: приподпере-подпере-пере – пошли пе-ремельками; быстрым винтом опустились, листом свои крылья сложили.
И листьями стали средь листьев.
– Вам папочка нравится? – Надя спросила. Японец, добряш, – просиял:
– Оссень, оссень!
Профессор Коробкин был идолом для Исси-Нисси; приехал устроить ему превосходное капище он; в этом капище видел Ивана Иваныча твердо на камне сидящим, на корточках, твердо литые два пальца поставившим перед литой, златой мордой: в халате златом!
Азиат!
Щебетливые скворчики вдруг обозначились: в кустиках: а сквозь орнамент суков прогрустило апрельское небо: в распёрушках белых.
Профессор схватил плоскополую шляпу и в шубу медвежью впихнулся (зачем не в пальто?) с рукавом перепродранным (что ж не подшили?): под руку подцапнул японца; из двери с ним выскочил взбочь; тартарыкнув по скользким ступенькам, почти что свалился с японцем на полупроталый ледок.
Здесь опять отвлекусь рассужденьем.
Касаются эти ученые, точно кубарики, пущенные пятилетним младенцем, под цоканье очень опасных копыт, – как-то зря: в заседаньях, на кафедрах, – рыба в воде: все движенья – ловки, своевременны, стильны, изящны: а здесь, средь прохожих, кубарики эти – нелепейше вертятся: только одно поврежденье – себе и другим.
И еще скажу: вид знаменитых ученых на улице, если не тащит их слон на спине, – примененье предметов, полезнейших в сфере одной, – бесполезное к сфере, ну, скажем, гулянья: такой точно вид, как, опять-таки скажем, термометра, употребленного при ковырянии носа орудием расковы-рянья: термометр – сломается; нос – окровавится колким осколком стекла; ртуть – просыплется: ни – ковыряния носа, ни – температуры! А, впрочем, коль нос ковырять с осторожностью, можно, пожалуй, для этого взять и термометр.
Можно с большой осторожностью, – даже с ученым пойти: прогуляться.
Профессор тащил с горяченьем японца; бедняга едва поспевал; в его жестах была непонятная задержь: наверное, двигался так манекен.
За забориком – издали – пели:
На улице нашей
Живет карлик Яша.
Над крышами быстро летели сквозные раздымки: и вдруг просочилося солнце сияющим и крупнокапельным дождиком; и обозначился: мокрый булыжник.
– Арбат-с!
– По Арбату проехался Наполеон, да – бежал, чорт
дери…
– Мы Москву ему в нос подпалили! – показывал он на свое своеумие русского духа.
Таким разгуляем шагал, молодяся всем видом.
– Артур бы не сдали-с [12]: изволите видеть, – тут Стес-сель [13]… Один Кондратенко [14]русак, да его разорвали гранатой… А то бы – он вас…
– У нас тозе золдат: холосо…
Но профессор нахмурился: не понимает японец! Последний поглядывал с задержью, мучаясь чем-то своим.
Постояли под Гоголем: свесился носом; прошлись по Воздвиженке; тут, подмахнув рукавом (на нем задрань висела), профессор сказал с наслаждением:
Читать дальше