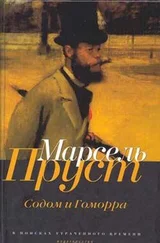В общем, я по-прежнему так же плохо понимал, почему Альбертина меня покинула. Если лицо женщины не охватить взглядом, бессильным прильнуть ко всей этой движущейся поверхности, не охватить губами и уж, во всяком случае, памятью, если ее лицо меняется в зависимости от занимаемого ею общественного положения, от высоты, на которой находишься ты сам, то какой же плотный занавес отделяет ее поступки от ее побуждений! Побуждения скрываются так глубоко, что они нам не видны, и порождают незнакомые нам поступки, часто идущие вразрез с теми, которые нам известны. В какие времена не бывало государственного деятеля, которого друзья почитали святым и который вошел в историю как человек двуличный, обкрадывавший государство, предававший родину? Сколько раз крупного землевладельца обворовывали управляющие, которых землевладельцы воспитали, за которых они поручились бы как за честных людей и которые, быть может, когда-то такими и были! Насколько же занавес, скрывающий побуждения женщины, более непроницаем, если мы эту женщину любим! Он затемняет наше представление о ней и ее поступки, она же, чувствуя, что ее любят, вдруг как будто бы перестает придавать значение богатству. Быть может, она притворяется равнодушной к богатству именно потому, что надеется достичь его. Материальные соображения могут примешиваться решительно ко всему.
«Дорогая Андре! Вы опять говорите неправду. Помните (вы сами мне в этом сознались, накануне я звонил вам по телефону, помните?), как хотелось Альбертине, скрыв это от меня, как нечто такое, чего хотелось Альбертине, скрыв это от меня, как нечто такое, чего я не должен знать, побывать на утреннем приеме у Вердюренов, куда собиралась приехать мадмуазель Вентейль?» – «Да, но Альбертина понятия не имела, что там будет мадмуазель Вентейль». – «То есть как? Вы же сами мне сказали, что за несколько дней до этого она встретилась с мадмуазель Вентейль. Андре! Для нас с вами обманывать друг друга – напрасный труд. Как-то раз, утром, я нашел в комнате Альбертины записку от госпожи Вердюрен, и в этой записке она просила Альбертину не опоздать на утренний чай». Я показал Альбертине эту записку; за несколько дней до отъезда Альбертины Франсуаза нарочно положила эту записку так, чтобы я ее увидел, не вещи Альбертины, и, теперь я с ужасом думал, что положила она ее там для того, чтобы Альбертина вообразила, будто я роюсь в ее вещах, во всяком случае, чтобы дать ей понять, что я эту записку видел. И я часто спрашивал себя: не этой ли хитрости Франсуазы я был в немалой степени обязан отъездом Альбертины, убедившейся, что она ничего больше не может он меня скрыть, пришедшей в отчаяние, чувствовавшей себя побежденной? Я показал Андре записку: «Я не испытываю ни малейших угрызений совести – меня оправдывает это привычное чувство…» «Вы отлично знаете, Андре, что она всегда говорила о подруге мадмуазель Вентейль как о своей матери, как о своей сестре». – «Да вы не так поняли эту записку! Госпожа Вердюрен намеревалась свести Альбертину у себя дома вовсе не с подругой мадмуазель Вентейль, это был жених „Я дал маху“, „привычное чувство“ – это чувство, которое госпожа Вердюрен питала к этому негодяю, а негодяй действительно ее племянник». Но мне все-таки казалось, что потом Андре узнала, что должна прийти мадмуазель Вентейль; г-жа Вердюрен могла сообщить ей об этом дополнительно. «Разумеется, мысль о том, что она опять встретится со своей подругой, доставляла Альбертине удовольствие, напомнила ей о милом прошлом, вот как вы были бы довольны, если бы должны были пойти туда, где, как вам было бы известно, будет Эльстир, но не более, даже не в равной мере. Нет, если Альбертина не сказала вам, почему ей хочется поехать к госпоже Вердюрен, то единственно потому, что у госпожи Вердюрен была назначена репетиция, на которую она позвала немногих и, между прочим, своего племянника, которого вы видели в Бальбеке и с которым Альбертине хотелось поговорить. Это был тот самый каналья… Да и потом, к чему подыскивать столько объяснений? – добавила Андре. – Один Бог знает, как я любила Альбертину и какое это было прелестное создание. Особенно я полюбила ее с тех пор, как она переболела тифоидной горячкой (за год до того, как вы со всеми нами познакомились). Ее болезнь – это было чистое безумие. Вдруг у нее вызывало отвращение все, что бы она ни делала, надо было все менять, и, конечно, в ту минуту она не могла бы дать себе отчет, почему ей так все отвратительно. Вы помните тот год, когда вы в первый раз приехали в Бальбек, тот год, когда вы с нами познакомились? В один прекрасный день она велела прислать ей телеграмму, вызывавшую ее в Париж, – едва успели тогда собрать ее вещи. А ведь У нее не было никаких поводов для отъезда. Все предлоги, какие она приискивала, были ложными предлогами. Ведь в Париже ее ожидала скучища. Мы все еще жили в Бальбеке. Гольф все еще процветал. Даже соревнования, – а ей так хотелось получить большой кубок, – еще не закончились. И она бы его, конечно, тогда завоевала. Надо было остаться в Бальбеке только на неделю. И что же? Она умчалась. Я потом часто с ней об этом заговаривала. Она уверяла, что и сама не знает, почему она уехала, – может быть, стосковалась по городу (подумайте: ну можно ли стосковаться по такому городу, как Париж?), может быть, ей надоел Бальбек, ей казалось, что там над ней посмеиваются». После я уже не задумывался над объяснениями Андре и говорил себе: «Как трудно в жизни постичь правду!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу