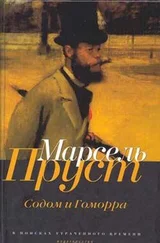Я развернул «Фигаро». Какая скука! Первая статья была под тем же заглавием, что и статья, которую я послал в газету и которая так и не была напечатана. Но не только то же заглавие, вот и несколько моих фраз – слово в слово. Это уже чересчур! Я пошлю протест. Но там было не только несколько слов – там было все, там была моя подпись… Моя статья вышла! Но моя мысль, которая, быть может, уже тогда устаревала и уставала, все еще как будто не понимала, что это моя статья, – так старики продолжают идти, даже если это уже не нужно, даже если надо немедленно отойти от непредвиденного препятствия, потому что это опасное препятствие. И только некоторое время спустя я принялся за духовную пищу, то есть начал читать газету, еще теплую от станка и влажную от утреннего тумана, ибо в утреннем тумане, на рассвете, ее передают служанкам, а те приносят ее своему хозяину и одновременно – кофе с молоком, – я принялся за чудесную размножаемую пищу, которая может быть и одним номером и десятью тысячами номеров и которая, так как она бесчисленна, проникая в разные дома, остается одной и той же для всех читателей [12].
Я держал в руках не какой-то определенный экземпляр газеты – это был один из десяти тысяч; это было не только то, что написал я, – это было то, что написал я, а прочли все. Чтобы ясно представить себе, что происходит сейчас в других домах, я должен прочитать статью не глазами автора, а глазами одного из читателей; это было не только то, что я написал, – это было восприятие написанного множеством умов. Чтобы прочитать статью, мне надо было на время перестать быть ее автором и превратиться в одного из читателей. И вот уже мною овладевает тревога: попадется ли статья на глаза непредупрежденному читателю? Я рассеянно разворачиваю газету, как это сделал бы непредупрежденный читатель, с таким выражением лица, как будто мне не известно, что напечатано сегодня в газете, и спешу заглянуть в светскую хронику или в политические новости. Но моя статья – большая, и для пущего правдоподобия (как человек, который нарочно слишком медленно проглядывает поданный ему счет) я цепляюсь за какую-нибудь фразу. Но многие из тех, кто обращает внимание на первую статью, даже те, кто ее читает, не смотрят на подпись. Да и я не мог бы назвать автора первой статьи в предыдущем номере. Теперь я даю себе слово всегда читать названия статей и фамилии авторов, но, подобно ревнивому влюбленному, который не изменяет своей возлюбленной, чтобы быть убежденным в ее верности, я с грустью думаю, что моя внимательность не заставит быть внимательными других. И потом, кто отправляется на охоту, а кто рано вышел из дому. Все-таки кое-кто да прочтет. И я начинаю читать. Что мне до множества читателей, у которых статья вызовет прилив ненависти? Я не могу себе представить, что другие читатели не увидят явственно те образы, какие вижу я, полагая, что мысль автора уловлена читателями, тогда как в их мозгу возникает другая мысль и мыслят они так же наивно, как те, что верят: произнесенное слово, такое, как оно есть, без посторонней помощи бежит по телефонному проводу; в тот момент, когда я хочу быть просто читателем, мой разум проделывает в качестве автора работу читателей. Пусть герцог Германтский не поймет фразу, которая понравится Блоку, – зато его может привлечь рассуждение, к которому Блок отнесся бы с пренебрежением.
Мне хотелось проникнуть в комнату какой-нибудь читательницы, до которой газета донесет если не мою мысль, которую она не поймет, то, по крайней мере, мое имя, – донесет как бы похвалу мне. Я говорил себе, что если мое здоровье будет по-прежнему ухудшаться и я больше не смогу видеться с друзьями, то мне надо продолжать писать, чтобы иметь к ним доступ, чтобы говорить с ними между строк, чтобы они стали моими единомышленниками, чтобы нравиться им, чтобы я нашел уголок в их сердце. До сих пор светские отношения занимали место в моей повседневной жизни, а будущее, в котором они отсутствовали бы, меня страшило, – вот почему мысль о таком способе задерживать на себе внимание моих друзей, может быть, даже вызывать их восхищение, вплоть до дня, когда я поправлюсь настолько, что буду в состоянии снова видеться с ними, – мысль о таком способе утешала меня. Я рассуждал таким образом, но чувствовал, что все это неправда; что если мне доставило бы удовольствие их внимание, то это было бы удовольствие внутреннее, духовное, зависящее от моего настроения, но такого удовольствия они доставить мне не могли, – такое удовольствие мне доставляла не беседа с ними, а писательство вдали от них и что если бы я начал писать, чтобы видеться с ними через посредство писания, чтобы у них составилось более высокое мнение обо мне, чтобы обо мне заговорили в свете, – быть может, писательство избавило бы меня от желания видеться с ними, и я бы отказался от положения, которое создала бы мне литература, потому что источник моего наслаждения – литература, а не общество.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу