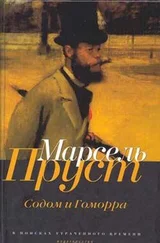В иные дни, когда я был не способен даже воображать, после пробуждения я чувствовал, что ветер во мне изменил направление; холодный, неутихающий, он дул из глубины минувшего и доносил до меня далекий звон часов, свистки перед отправлением поездов, то, чего я обычно не слышал. Я брал книгу. Вновь открывал мой любимый роман Бергота; симпатичные действующие лица мне нравились, и скоро, подпав под обаяние автора, я уже хотел, чтобы злая женщина была наказана, как будто она сделала зло лично мне; если молодожены были счастливы, на глазах у меня выступали слезы. «Но, стало быть, – в отчаянии говорил я себе, – из того, что я придаю такое значение поступкам Альбертины, я не могу сделать вывод, что ее личность продолжает быть реальной, не подлежащей уничтожению, что я встречусь на небесах с похожей на нее, хотя прежде мне никогда не случалось ее видеть и я волен рисовать себе ее облик как мне угодно, – не могу сделать этот вывод, раз я так усердно молюсь, с таким нетерпением жду, раз у меня вызывает слезы радости успех человека, существовавшего только в воображении Бергота!» В его романе были соблазнительные девушки, любовные записки, пустынные аллеи, где встречаются герои. Это мне напоминало, что можно любить тайно, это пробуждало во мне ревность, как будто Альбертина еще могла гулять в пустынных аллеях! И еще там речь шла об одном мужчине: пятьдесят лет спустя он встречается с женщиной, которую любил в молодости, не узнает ее и скучает в ее обществе. И это мне напоминало, что любовь не долговечна, и волновало так, как если бы мне было суждено расстаться с Альбертиной, а в старости вновь, но уже равнодушно, встретиться с ней. Если же передо мной была карта Франции, мой испуганный взгляд не задерживался на Турени, чтобы не терзаться ревностью и не горевать, на Нормандии, где были помечены, во всяком случае, Бальбек и Донсьер, между которыми я представлял себе дороги, где мы столько раз проходили вместе! Среди разных названий французских городов и селений название Тура, например, казалось созданным по-другому: не из нематериальных образов, а из ядовитых веществ, и сейчас же действовало мне на сердце: его удары становились все учащеннее и болезненнее. Я вспоминал, как Альбертина, выходя из вагона, говорила, что ей хочется съездить в Сен-Мартен Одетый, я видел ее в более давние времена, с вуалеткой, опущенной на лицо; я искал путей к счастью и, устремляясь к ним, говорил: «Мы могли бы вместе съездить в Кемперлэ, в Понт-Авен». Не было такой станции близ Бальбека, где бы я ни представлял себе Альбертину, так что этот край превращался для меня в сохранившуюся от древнейших времен мифологическую страну с живыми и жестокими легендами, очаровательными, забытыми из-за того, что моя любовь перешла в другие края. Ах, как было бы мне больно когда-нибудь снова лечь в бальбекскую кровать с ее медной рамой, вокруг которой, как вокруг неподвижной оси, вокруг неподвижного стержня, двигалась моя жизнь, последовательно вбирая в себя веселые разговоры с бабушкой, ужас ее смерти, нежные ласки Альбертины, открытие ее порока, а теперь настала новая жизнь, когда при виде застекленных книжных шкафов, в которых как бы отражалось море, в меня впивалась мысль, что Альбертина никогда больше сюда не войдет! Не был ли бальбекский отель единственной декорацией провинциального театра, где на протяжении многих лет ставят самые разные пьесы – комедии, трагедии, пьесы в стихах, – отель, который отошел уже в довольно далекое прошлое, хотя всегда с новыми эпохами моей жизни в его стенах? Но пусть этот период моей жизни навсегда останется тем же: стены, книжные шкафы, зеркала вызывали во мне такое чувство, что это уже последний период, что это – я сам, только изменившийся, и у меня создавалось впечатление, какого не бывает у детей: пессимистические оптимисты, они верят, что тайны жизни, смерти, любви скрыты, что их они не касаются, и вдруг ты с болезненной гордостью убеждаешься, что на протяжении многих лет составлял единое целое со своей жизнью. Я пытался читать газеты.
Чтение газет было для меня занятием отвратительным, но не бесполезным. В самом деле, в нас от каждой идеи как от развилки в лесу, отходит столько разных дорог, что в ту минуту когда меньше всего этого ожидаешь, оказываешься перёд новым воспоминанием. Название мелодии Форе «Тайна» привело меня к «Тайне короля» герцога де Бройль, Бройль – к Шомону. Слова «Великая Пятница» напомнили мне о Голгофе, Голгофа – о происхождении этого слова, кажется, от Calvusmons, от Шомона. Но какой бы дорогой ни подходил я к Шомону, в эту минуту меня потрясал такой жестокий удар, что я уже не столько предавался воспоминаниям, сколько думал, как бы мне утешить боль. Несколько мгновений спустя после удара, сознание, которое, как гром, движется не скоро, объясняло мне причину удара. Шомон навел меня на мысль о Бют-Шомоне: г-жа Бонтан мне сказала, что Андре часто гуляет здесь с Альбертиной, а между тем Альбертина говорила мне, что никогда не видела Бют-Шомона. В определенном возрасте наши воспоминания так тесно переплетаются, что твои мысли, книга, которую ты читаешь, уже не играют роли. Всюду ты вкладываешь частицу самого себя, все благодатно, все опасно, в рекламе мыла можно сделать такие же драгоценные открытия, как в «Мыслях» Паскаля.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу