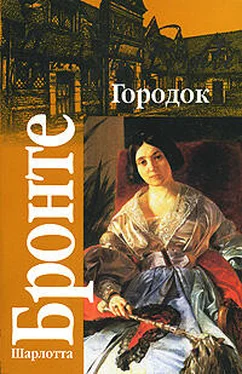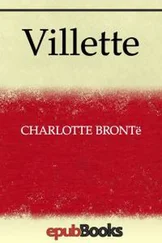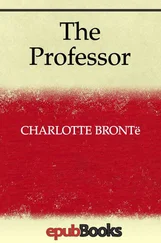Да, это я знала. Упрямец и причудник, он не выносил шпор и узды; он восставал против всякой повинности и неизбежности. Я, однако, решилась — не без страха, конечно, но страх мой мешался с другими чувствами, и, между прочим, с любопытством. Я отворила дверь, вошла, закрыла ее так быстро и тихо, как только позволяла не слушавшаяся меня рука; промешкать или засуетиться, загреметь задвижкой или оставить дверь неприкрытой значило усугубить вину и навлечь еще более страшные громы. Итак, я стояла, а он сидел; его дурное (если не ужасное) расположение духа было заметно; он давал урок из арифметики (он мог преподавать все, что ему вздумается), арифметика же своею сухостью неизменно его раздражала; ученицы трепетали, когда он говорил о числах. Он сидел, склонясь над столом; с минуту он крепился, чтобы не замечать шороха у дверей в нарушение его воли и закона. Мне того и надо было: я выиграла время и успела пересечь залу; легче отражать взрыв ярости с близкого расстояния, чем подвергаться угрозе издалека.
У эстрады я остановилась, прямо напротив него; конечно, я не заслуживала внимания; он продолжал урок. Но презрением он не отделается ему придется выслушать меня и ответить.
У меня не хватало росту дотянуться до его стола, вознесенного на эстраду, и я неловко пыталась сбоку заглянуть ему в лицо, которое еще от дверей поразило меня близким и ярким сходством с черно-желтой физиономией тигра. Дважды выглядывая из укрытия, я безнаказанно пользовалась тем, что меня не видят; но на третий раз его lunettes [323] Очки (фр.).
перехватили и насквозь пронзили мой взгляд. Розина оказалась права: сами стекла наводили ужас, независимо от яростного гнева прикрываемых ими глаз.
Но я верно рассчитала преимущество близкого расположения: близорукие эти «lunettes» не могли изучать преступника под самым носом у мосье; потому он сбросил их, и вот мы были в равном положении.
К счастью, я не очень его боялась — стоя совсем рядом, я даже вообще не испытывала страха; и тогда как он требовал веревку и виселицу во исполнение только что объявленного приказа, я предлагала взамен нитки для вышивания с такой любезной готовностью, которая хоть отчасти укротила его гнев. Разумеется, я не стала перед всеми демонстрировать свою учтивость; я просто завела нитку за край стола и прикрепила ее к решетчатой спинке профессорского стула.
— Que me voulez-vous? [324] Чего вам от меня надо? (фр.)
— зарычал он, и вся эта музыка осталась в недрах груди и глотки, ибо он тесно стиснул зубы и, казалось, поклялся ничему на свете уже не улыбаться.
Я отвечала не колеблясь: «Monsieur, — сказала я, — je veux l'impossible, des choses inouies», [325] Мосье, я хочу невозможного, вещей неслыханных (фр.).
— и решив, что всего лучше говорить напрямик, сразу окатив его душем, я передала тихо и скоро просьбу из Атенея, всячески преувеличив неотложность дела.
Конечно, он и слышать ни о чем не хотел. Он не пойдет; он не уйдет с занятий, даже если за ним пошлют всех чиновников Виллета. Он не сдвинется с места, даже если его призовут король, кабинет и парламент вместе взятые.
Но я знала, что ему надобно идти; что бы он ни говорил, интересы его и долг призывали его немедля и буквально исполнить то, чего от него хотели; поэтому я молча выжидала, не обращая никакого внимания на его слова. Он спросил, что еще мне нужно.
— Только чтобы мосье ответил нарочному.
Он раздраженно тряхнул головой в знак отрицанья.
Я осмелилась протянуть руку к его феске, мрачно покоившейся на подоконнике. Он проводил это дерзкое поползновение взглядом, безусловно, удивленный и опечаленный моей наглостью.
— А, — пробормотал он, — ну, если так, — если мисс Люси смеет касаться до его фески — пусть сама ее и надевает, превращаясь для такого случая в garcon'a, и смело идет вместо него в Атеней.
Я с великим почтением положила шапку на стол, и она величаво кивнула мне кисточкой.
— Я пошлю извинительную записку, и довольно! — сказал он, все еще уклоняясь от неизбежного.
Сознавая тщетность своего маневра, я мягко подтолкнула шапку к его руке. Она скользнула по гладкой наклонной крышке полированного, не покрытого сукном стола, увлекла за собою легкие, в стальной оправе «lunettes», и страшно сказать — они упали на эстраду. Сколько раз видела я, как они падали благополучно — но теперь, на беду злополучной Люси Сноу, они упали так, что каждая ясная линза превратилась в дрожащую бесформенную звезду.
Тут уж я не на шутку испугалась — испугалась и огорчилась. Я знала цену этим «lunettes»; у мосье Поля был особый трудноисправимый недостаток зрения, а эти очки выручали его. Я слышала, как он называл их своим сокровищем; рука моя дрожала, подбирая бесполезные осколки. Я ужаснулась того, что наделала, но раскаяние мое, кажется, было еще сильнее испуга. Несколько секунд я не решалась взглянуть в лицо обездоленному профессору; он заговорил первый.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу