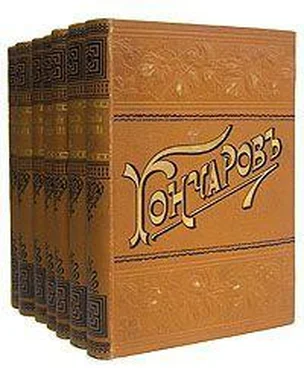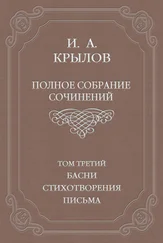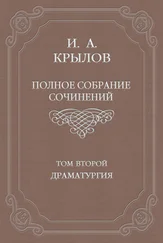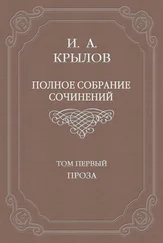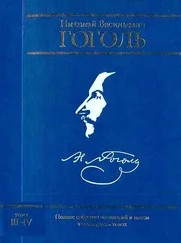В духовном опыте гончаровского поколения – у Белинского, Герцена, Огарева, Тургенева, Некрасова, Панаева и многих других – преодоление собственного юношеского романтизма составляло необходимый и далеко не безболезненный этап. Творческая эволюция Гончарова как «человека тридцатых годов» не вполне укладывается в общую для поколения схему. Авторская ирония по отношению к героям-романтикам в повестях «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка», отделенных от стихотворений всего тремя-четырьмя годами, пародийное использование в них важнейших идейных и стилевых клише романтизма говорят о том, что идеализмом и мечтательностью автор повестей был «заражен» куда менее своих современников; во всяком случае, его «отрезвление» произошло раньше и безболезненнее, чем у многих из них.
Но у проблемы гончаровского «романтизма» есть и иная сторона. Писатель относил себя к последователям «идеального, ничем не сокрушимого направления», к категории «неизлечимых романтиков» («Если я романтик, то уже неизлечимый романтик, идеалист»), признаваясь: «…я принадлежу к числу тех натур, которые никогда и ни с чем не примирятся: разве идеал, то есть олицетворение его, возможно?» (из письма С. А. Никитенко от 8 (20) июня 1860 г.). По мысли Гончарова, важной для понимания его творческой позиции, если у человека «хоть немного преобладает воображение над философией, то является неутолимое стремление к идеалам, которое и ведет к абсолютизму, потом отчаянию, зане между действительностию и идеалом лежит ‹…› бездна, через которую еще не найден мост, да едва и построится когда» (из письма к И. И. Льховскому от 5 (17) ноября 1858 г.). Романтическое «двоемирие» выступает как органическая черта авторского сознания, и антитеза «мечты – действительности» остается актуальной для проблематики гончаровских романов наряду с проблемами «идеала» и «идеализации», приобретающими в них, разумеется, новое содержание. Все три романа Гончарова несвободны от элементов романтической поэтики (и романтической фразеологии), в немалой степени воздействующих и на
621
структуру конфликта, и на характер мировосприятия центрального персонажа.1 Тяготея по природе своего творческого дара к широчайшим обобщениям, Гончаров делает героя-романтика, «в высшей степени идеалиста», в полном смысле слова «обыкновенным», т. е. подлинно универсальным, общечеловеческим типом.
Ранние произведения – наглядный пример исключительного постоянства Гончарова-художника как в тематике, так и в образных средствах. В 1830-е гг., можно сказать, уже наметились и тип героя, и круг проблем, занимавших писателя на последующих этапах творчества, и ряд характерных черт гончаровской поэтики. Именно в ранней прозе возникли представление о двух «господствующих» типах мироощущения – прозаическом и поэтическом; ключевой в творчестве писателя образ «жизни-сна»; важнейшая в структуре произведений зрелого Гончарова антитеза «покой – беспокойство» (также, возвращаясь к сказанному выше, одна из традиционно романтических оппозиций). Подчеркнуто декларируемая в ранних произведениях идея несовместимости «суеты» и «покоя», показ и того и другого состояния в комически утрированных формах вскрывают отнюдь не их противоположность, а принципиальные для Гончарова сходство и взаимодополняемость.
В прозе 1830-х гг. формируется и специфический для гончаровского повествования образ автора, трезвую объективность которого питает тонкая и гибкая ирония, защищающая авторский взгляд как от любого рода «идеализации», или аффектации, так и от критицизма, сатирически-обличительного пафоса.
Ранняя проза не менее цитатна, чем гончаровские романы: тексты изобилуют ссылками на прочитанного еще в детские годы Тассо, реминисценциями Карамзина, Жуковского, Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Не только неизменные для Гончарова литературные авторитеты составляют в данном случае цитатный ряд (авторитетность, впрочем, не препятствует тому, чтобы учителя и великие современники цитировались в комическом или ироническом контексте). Начинающий автор на страницах «домашних» изданий нередко выступает как вполне равноправный, искушенный в обстоятельствах литературно-критических баталий 1830-х гг. полемист. В его ранних произведениях немало иронических выпадов в духе беллетристики и критики толстых журналов той поры, метящих в Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина, А. А. Орлова, О. И. Сенковского и др.
4
Датированный Гончаровым 1842 г., однако опубликованный уже после «Обыкновенной истории» очерк «Иван Савич Поджабрин» на ином, социально конкретизированном, материале продолжает центральную
Читать дальше