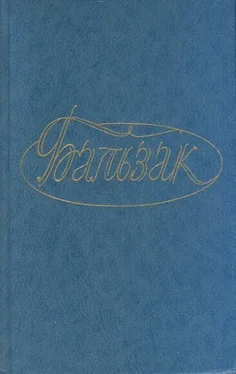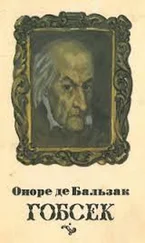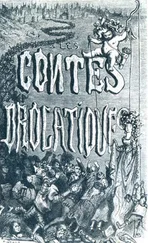Мы постучались в огромные парадные ворота особняка, расположенного между двором и садом, и обширного, как особняк Карнавале; стук прозвучал так гулко, словно в пустом пространстве. Покуда дядя осведомлялся о графе у старого привратника в ливрее, я окинул пытливым взглядом мощеный двор, заросший травой, кровли, остроконечные, точно во дворце Тюильри, потемневшие стены, где поверх прихотливых архитектурных украшений вырос кустарник. Перила на верхних галереях обветшали. Сквозь великолепную арку я разглядел еще один двор, где помещались служебные постройки с покосившимися дверями. Старый кучер чистил там ветхую карету. По его ленивому виду легко было догадаться, что в великолепных конюшнях, где некогда слышалось громкое лошадиное ржание, стояло теперь самое большее две лошади. Роскошный фасад особняка показался мне хмурым, словно это было государственное или дворцовое здание, сданное под общественное учреждение. Колокольчик непрерывно звенел, пока мы с дядей шли от будки привратника (над дверью еще сохранилась надпись: Обратитесь к, привратнику) до самого подъезда, откуда вышел лакей в ливрее, напоминавшей ливреи Лабраншей в старинном репертуаре французской комедии. Гости, видимо, были такой редкостью, что служитель едва успел напялить свой казакин, отворяя застекленную мелкими квадратами дверь, по обеим сторонам которой чернели пятна копоти от двух фонарей. За вестибюлем, по великолепию достойным Версаля, виднелась лестница, не уступающая по размерам современному дому, — таких уже больше не строят во Франции! Мы поднимались по каменным, холодным, как могильные плиты, ступеням, где могли бы выстроиться восемь человек в ряд, и наши шаги отдавались в гулких сводах. Казалось, будто находишься в соборе. Узоры кованых перил восхищали взор чудесной чеканкой, — в них воплотилась творческая изобретательность какого-нибудь мастера времен Генриха III. Холод пронизывал нас, пробегая по спине, а мы все шли прихожими, анфиладами гостиных с паркетными полами без ковров, уставленными той прекрасной старинной мебелью, какая обычно потом переходит к торговцам редкостями. Наконец мы вошли в большой кабинет, расположенный в квадратном павильоне, все окна которого выходили в обширный сад.
— Господин настоятель Белых ряс с племянником, господином Осталем! — провозгласил второй Лабранш, на попечение которого сдал нас театральный лакей в первой прихожей.
Граф Октав, одетый в сюртук из серого мольтона и в панталоны со штрипками, поднялся из-за громадного письменного стола, подошел к камину и, знаком предложив мне сесть, взял моего дядю за обе руки и крепко пожал их.
— Хотя я и принадлежу к приходу святого Павла, — сказал он, — но я много слыхал о настоятеле Белых ряс и счастлив с ним познакомиться.
— Вы слишком добры, граф, — отвечал дядя, — я привел к вам своего единственного родственника, оставшегося в живых. Льщу себя надеждой, что он будет вам хорошим помощником, а также рассчитываю найти в вас, граф, второго отца моему племяннику.
— Я вам отвечу, господин аббат, только после того, как ваш племянник и я испытаем друг друга, — сказал граф. — Как вас зовут? — спросил он меня.
— Морис.
— Он доктор прав, — добавил дядя — Хорошо, хорошо, — сказал граф, окинув меня внимательным взглядом с головы до ног. — Господин аббат, я надеюсь, что, как ради вашего племянника, так и ради меня, вы окажете мне честь обедать с нами по понедельникам. Это будет наш общий обед, наш семейный вечер.
Дядя и граф принялись беседовать о религии с точки зрения политики, о благотворительности, о борьбе с преступностью, и я мог вволю насмотреться на человека, от которого отныне зависела моя судьба. Граф был среднего роста; о сложении его я не мог судить из-за его костюма, но он показался мне худым и сухощавым. Лицо было суровое, щеки впалые. Черты отличались тонкостью. Довольно большой рот выражал и насмешливость и доброту. Непомерно широкий лоб казался странным и напоминал лоб безумца, в особенности из-за контраста с нижней частью лица и маленьким, словно срезанным подбородком, почти сходившимся с нижней губой. Глаза, цвета бирюзы, живые и умные, как глаза князя Талейрана, которым я восхищался впоследствии, казались столь же непроницаемыми, как у знаменитого дипломата, и подчеркивали странность этого изжелта-бледного лица. Такая бледность как будто указывала на вспыльчивый нрав и бурные страсти. Волосы с проседью, тщательно причесанные, лежали ровными белыми и черными прядями Щегольская прическа нарушала подмеченное мною сходство графа с тем необыкновенным монахом, образ которого создал Льюис в подражание Скедони, герою романа «Исповедальня чернецов», произведения, стоящего, по-моему, значительно выше «Монаха». Как человек, привыкший спозаранку являться в судебное присутствие, граф был уже чисто выбрит. Два канделябра в четыре рожка под абажурами с еще горевшими свечами, поставленные по углам стола, свидетельствовали, что сановник вставал задолго до рассвета. Руки его — я их разглядел, когда он потянулся за шнурком звонка, чтобы позвать лакея, — были очень красивы и белы, точно у женщины.
Читать дальше