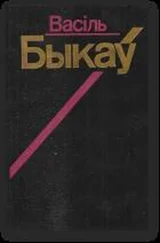Выползок убежал куда-то, может, искать кого-то еще по хлевам, а бабы вышли на двор и стали возле ограды. Без вил в хлеву делать было нечего. Бабы не могли окончить своего взволнованного разговора об испорченном празднике, ругали председателя. “И гляди-ка ты — выжил в блокаду, — говорила Лузгина Ольга.—Не было его в нашем отряде!” — “А что бы ты ему сделала в вашем отряде? — усомнилась старшая невестка Коржа. — Соли бы на хвост насыпала? Он и там был гроза”. — “Кому гроза — немцам?” — “Не так немцам — своим. Да шпионам этим”…
Ганка слушала и усмехалась — как особисты управлялись со шпионами, она немного уже слышала, помнила случай из своего отряда. Как-то с девками была в Плешне, где квартировал и бригадный штаб, — стирали начальству белье. Тогда же из лагеря бежало пятеро пленных красноармейцев, прибились в отряд. Ну, понятное дело, — проверка: может, завербован, заслан. Всех допрашивают в хате особого отдела, никто не признается. Командиры же знают наверняка: кто-то заслан — и принимают решение: если к утру никто не признается, всех — в расход. Ночью перед расстрелом один из беглецов по фамилии Окунев требует лично командира, которому сообщает, что завербованы все, кроме его, Окунева. Мол, ему о том по секрету признался земляк, который тоже завербован. Возмущенные командиры день спустя расстреляли всех, кроме Окунева. Рассудили так: если Окунев выдал даже земляка, значит, он — свой, честный. Послали Окунева в группу подрывников, в которой он пустил под откос три поезда, а затем на станции Парафьяново перебежал к немцам. Оказалось, что именно Окунев и был завербован, остальные ни при чем. Но начальнику особого отдела за тех разоблаченных и расстрелянных уже дали орден — не отнимать же обратно. Тем более у заслуженного кадрового чекиста. А чтобы не очень удивлялись в отряде, его перевели в соседнюю бригаду, говорили — на повышение.
Спустя какой-нибудь час Ганка выкинула за порог все, что было в хлеву. На чистое, влажное еще место перевела молодую коровку сестер Барашковых. Но возчики с телегами все не ехали, в хлеву уже делать было нечего, и Ганка вышла во двор. Бабы стояли поодаль вдоль ограды, похоже, работать сегодня не собирались.
— Перекур, Ганка! — вроде подобрев, сказала Ходоска и улыбнулась.
Ганке это понравилось, даже подумалось: может, они еще и помирятся. Хотя и так обижаться подруге не было за что, — на Выползка они могли обижаться обе.
Воткнув вилы в землю, Ганка прислонилась к ограде рядом с Ходоской. Бабы почему-то все разом умолкли, как только она к ним приблизилась. Ганка заметила это, и ей стало неловко, — возле них она по-прежнему чувствовала себя чужой. Как-то настороженно с крыльца за ними наблюдали сестры Барашковы.
Неожиданно из-за угла хаты появился бригадир Козич — молодой парень в ловко подпоясанной гимнастерке и празднично начищенных сапогах — вроде сам собирался праздновать. Сгребая рукой раскулаченный ветром чуб, расслабленно улыбался.
— Вкалываем?
— Вкалываем! — с вызовом ответила Ходоска. — Но ты же вчера обещал…
— Ну, обещал. Пусть бы не шли. Я же вас не гнал.
— Глядите на него — он не гнал! — сразу осерчала Ходоска. — Выползок выгнал.
— А зачем слушались?
— Как же не послушаешь, если с наганом? Вон Косачеву застрелить хотел.
— Этот могет, — сдержанно согласился бригадир. Видать по всему, чувствовал он себя неважно, может, еще выдыхал вчерашнее или принятое с ночи. — Если овцами будете…
— Будешь овцами. Вы же — сила, партия. Как с вами обходиться? — горячилась Ходоска.
— Мы с такими обходились, — многозначительно вытиснул сквозь зубы Козич. — На фронте.
— Так то на фронте. А мы тут в тылу. Как в тюрьме.
— Ну как хотите, — бросил бригадир и, вдруг заторопившись, пошел со двора.
— Такой парень! — мечтательно сказала Ходоска, как только он исчез за углом.—Сопьется!
И пригорюнилась. Ганка тоже пригорюнилась — больше, нежели в хлеву, когда ковыряла навоз. Нет, счастья у нее больше не будет, думала она, судьба ее обошла стороной. Остается одно — горевать в одиночестве до конца дней…
— Долго он тут жить будет? — спросила баба от изгороди.—Потеплеет и съедет. В город.
— Я б тоже съехала, — вздохнула Ходоска. — Завербовалась бы в Карелию, на лесоповал. Если бы не мама. Больную не бросишь.
— Ты еще можешь. Пока детей не нарожала…
Стоя молча у изгороди, Ганка думала, где теперь ее девчатки, может, плачут на улице? И словно в ответ на свои заботы вдруг увидела их — по двору шла Волька, ведя за ручку малую — босую, в длинной незастегнутой кофте, уже заплаканную. Завидев мать, та выдернула у сестренки ручку и бегом припустилась по двору. Ганка, присев, протянула навстречу руки, в которые с искреннею детскою радостью уткнулась малая. Ее заплаканное личико прояснилось добротой и покоем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу