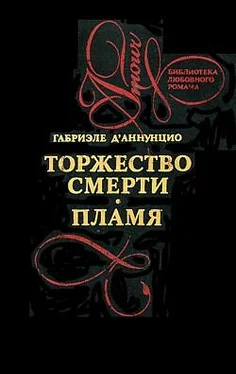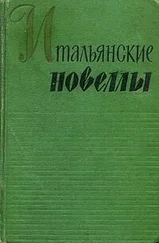Роковая сила напитка действовала на душу и тело любовников, обреченных на смерть. Ничто не могло загасить или убавить это зловещее пламя — ничто, кроме смерти. Они напрасно предавались всем ласкам, напрасно напрягали все свои силы, чтобы слиться в чудном поцелуе, обладать друг другом, стать одним существом. Вздохи сладострастия обращались у них в тяжелые рыдания. Непреодолимое препятствие вставало между ними, разделяло и делало их чужими друг другу и одинокими. Это препятствие заключалось в них самих. И тайная ненависть зарождалась в обоих — потребность разрушать и уничтожать, потребность убить и умереть. Даже в ласках они видели невозможность переступить материальную границу человеческих чувств. Губы встречали губы и останавливались. «То смертью умрет, — говорил Тристан, — что нас гнетет, что мешает Тристану вечно любить Изольду, жить вечно для нее одной».
Они вступали уже в вечный мрак. Мир явлений исчезал вокруг них. «Вот умерли… чтоб вечно жить друг для друга, вечно быть, без томленья, пробужденья, в безымянном единенье, в браке нераздельном, в блаженстве беспредельном!»
Слова эти отчетливо звучали при pianissimo в оркестре. Новый восторг охватывал влюбленных и уносил их в ночной мир чудес. Они предвкушали уже блаженство смерти, чувствовали себя освобожденными от тяжести тела; их имущество одухотворялось и плавало в безграничной радости. «В безымянном единенье, в браке нераздельном, в блаженстве беспредельном».
«Берегитесь, берегитесь! Уже брезжит день. Проснитесь!» — уговаривала их невидимая Брангена с высоты.
Утренний холодок пробегал по саду, пробуждал цветы. Холодный свет зари медленно заливал звезды, начинавшие сильнее дрожать. «Берегитесь!»
Напрасно молила их верная служанка. Они не слушали ее; они не желали и не могли проснуться.
В рассвете дня они только глубже уходили во мрак, куда не мог проникнуть даже свет сумерек. «Да длится вечно ночь!» И их окутывал вихрь звуков, увлекал за собой в бурном порыве, уносил на далекий берег, к которому они стремились, туда, где никакая тревога не сдерживала порыва любящей души, вне всяких мучений, вне всяких страданий, вне одиночества, в безграничное царство чудной мечты.
«Спасайся, Тристан!» Это был крик Курвенала вслед за криком Брангены. Это было внезапное грубое нападение, нарушившее момент восторженного упоения. И тогда, как в оркестре звучала тема любви, мотив охоты раздавался в металлических звуках. Появлялся король со свитой. Изольда была покрыта широким плащом Тристана, который скрывал ее от взглядов и света и утверждал этим поступком свою власть, свое бесспорное право на нее. «Постылый день — в последний раз!» Он в последний раз со спокойствием и твердостью героя принимал бой; он был убежден теперь, что ничто не могло изменить или остановить течение его судьбы. Тогда как тяжелые страдания короля Марка выливались в протяжной и выразительной песне, Тристан стоял неподвижно, углубившись в свои тайные думы. Но, наконец, он отвечал на вопросы короля: «Ту тайну, король, не разрешу я; на твой вопрос не может быть ответа». Мотив напитка бросал на его ответ мрак таинственности, тень чего-то непоправимого. «Куда Тристан уходит, пойдет ли с ним и Изольда?» — спрашивал он просто королеву перед всеми. «В далекой той стране нет солнца в вышине. Там будет сумрак обнимать… Меня взяла оттуда мать, когда по смерти я рождался и в смерти новой на свет являлся» . А Изольда: «Туда, где родина Тристана, туда хочет идти Изольда. Она хочет слепо следовать за ним. Пусть только он укажет ей путь».
И умирающего героя, раненного изменником Мелотом, увозили на родину.
В третьем вступлении открывался вид на далекий берег, на голые, мрачные, пустынные скалы, у которых море непрерывно плакало, как в безутешном горе. Дух легенды и таинственной поэзии окутывал голые массы скал, слабо освещенные либо первыми лучами рассвета, либо последними лучами сумерек. Звуки пастушьей свирели пробуждали неясное воспоминание о прошедшей жизни, обо всем утраченном во мраке времени.
«Напев старинный будил меня? Ах, где я?»
Пастух наигрывал на хрупком инструменте вечную мелодию, переданную ему предками, и спокойно сидел в глубокой беззаботности.
И Тристан, душе которого эти тихие звуки открыли все, пел: «Там, где лежу, не был я; но где я пробыл, про то ты знать не можешь!.. Там солнца не видать, там нет земли, народа; но что там есть, ты знать про то не можешь!.. Я был, где я уж был до века, куда пойду навек: в святом краю вселенской тьмы! Одно чувство там лишь живо: всеблаженство, всезабвение…» Лихорадочный бред волновал его, огонь любовного напитка жег его до глубины существа. «О, ты не можешь понять моих страданий! О, ужасное желание, пожирающее меня, о, пламя томленья, жгущее кровь! О, если бы ты мог понять их!»
Читать дальше