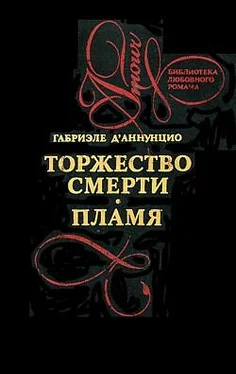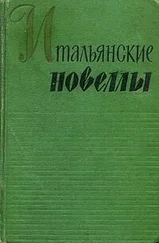О, это был ее дорогой, незабвенный голос, трогавший его до глубины души. Это был голос утешения, совета, прощения, высшей доброты, который он слышал в тяжелые минуты; это был знакомый ему голос, Джиорджио узнал, наконец, нежное, обожаемое создание прежних времен.
— О мама, мама…
Он сжимал ее в своих объятиях, рыдая, обливая ее горячими слезами и порывисто целуя ее щеки, лоб и глаза.
— Бедная моя мама!
Он усадил ее, встал перед нею на колени и долго глядел на нее, точно видел ее теперь в первый раз после долгой разлуки. Она спросила искривленными губами, с трудом сдерживая рыдания, сдавливавшие ей горло:
— Я очень огорчила тебя?
Он прислонился головой к ее коленям и стал понемногу успокаиваться под ласками матери. Рыдания иногда заставляли его вздрагивать. В его уме мелькали неясные воспоминания об огорчениях отроческого возраста. С улицы доносилось щебетанье ласточек, скрип колеса точильщика и крики людей; эти звуки были знакомы ему, но теперь они раздражали его. По окончании кризиса в нем наступило состояние какого-то неопределенного брожения, но явившийся внезапно в его уме образ Ипполиты так бурно взволновал его внутренний мир, что он глубоко вздохнул на коленях матери.
Она прошептала, нагибаясь над ним:
— Как ты вздохнул!
Он улыбнулся ей, не открывая глаз и чувствуя полный упадок сил, страшную усталость и непреодолимую потребность отступить с поля битвы, не ожидая перемирия.
Желание жить понемногу оставляло его, подобно тому, как теплота исчезает из мертвого тела. От недавнего волнения не осталось ничего; мать снова делалась чужой для него, что он мог сделать для нее? Спасти ее? Вернуть ей спокойствие, здоровье, счастье? Разве катастрофа не была неизбежна? Разве ее существование не было отравлено навсегда? Мать не могла больше служить ему утешением, как во времена далекого детства. Она не могла понять и исцелить его. Склад их ума и образ жизни были слишком различны. Она могла только показать ему картину своих страданий.
Джиорджио встал и поцеловал мать. Они расстались. Он пошел в свои комнаты и вышел на балкон. Высокие горы Маиеллы на зеленоватом фоне неба были залиты розовым светом заката. Оглушающее щебетанье кружившихся в воздухе ласточек неприятно подействовало на него, и он пошел и растянулся на кровати.
«Вот я живу и дышу, — думал он. — А в чем состоит сущность моей жизни? От каких сил она зависит? Какими законами она управляется? Я не владею собой, подобно человеку, который обречен стоять на вечно колеблющейся и качающейся плоскости и теряет равновесие, куда бы он ни поставил ногу. Я всегда нахожусь в тревожном состоянии, но и это состояние неопределенно. Я не понимаю, что это за тревога: беглеца, которого преследуют по пятам, или преследователя, который никак не может настигнуть беглеца. Может быть, это и то, и другое».
В Санта Мария Маджиоре прозвонили к вечерне. Он вспомнил похоронное шествие, гроб, монахов в капюшонах и маленьких оборванцев, с трудом собиравших восковые слезы и шедших, немного нагнувшись, неровными шагами, с устремленными на колеблющееся пламя глазами.
Эти дети долго не выходили у него из памяти. В письме к своей возлюбленной он развил скрытую аллегорию, которую его ум, искавший сравнений, увидел в этом событии: «Один из мальчиков, худенький и мертвенно-бледный, опирался одной рукой на костыль, а в ладонь другой руки собирал капавший воск; он с трудом двигался вперед рядом с великаном в капюшоне, грубо сжимавшим свечу в огромном кулаке. Я как сейчас вижу их перед собой и никогда не забуду их. Во мне есть какое-то сходство с этим мальчиком. Моя настоящая жизнь находится во власти какого-то таинственного, невидимого существа, сжимающего ее в железном кулаке, и я вижу, как она разрушается, и с трудом подвигаясь вперед, выбиваясь из сил, чтобы подобрать хоть малейшую долю ее. И каждая капля жжет мою бедную руку».
На обеденном столе в вазе красовался букет свежих майских роз из сада, набранных Камиллой, младшей сестрой Джиорджио. За столом сидели мать, брат Диего и приглашенные на этот день жених Камиллы и старшая сестра Христина с мужем и бледным белокурым ребенком, нежным и стройным, как полураспустившаяся лилия.
Джиорджио сидел между отцом и матерью.
Муж Христины, барон Паллеауреа дон Бартоломео Челаиа, с раздражением в голосе рассказывал о городских интригах. Ему было под пятьдесят лет. Это был человек с плешью на макушке головы и с чисто выбритым лицом. Его резкие движения и почти нахальные манеры составляли странный контраст с его клерикальной внешностью.
Читать дальше