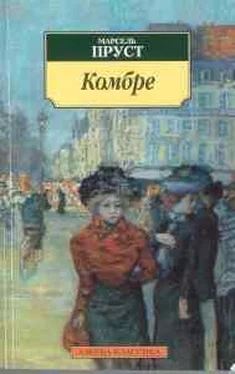С того дня насколько горше мне было сознавать на прогулках в сторону Германта, что у меня нет способностей к литературе и я должен навсегда отказаться от надежды стать знаменитым писателем! Мечтая в одиночестве, в стороне от всех, я терзался такими сожалениями, что мое растравленное болью сознание стремилось избавиться от этой муки и изгоняло мысли о стихах, о романах, о литературном будущем, на которое я не мог рассчитывать из-за бездарности. Но, отрешившись от мыслей о литературе и без всякой связи с ней, я вдруг останавливался при виде какой-нибудь крыши, солнечного блика на камне или оттого, что дорога пахла как-нибудь необычно: я испытывал перед ними совершенно особое удовольствие, а кроме того, казалось, они таят нечто недоступное моему зрению и приглашают меня до этого добраться, но, как я ни старался, я не мог понять, что там такое. Но я чувствовал, что это находится у них внутри, и вот я застывал на месте, смотрел, нюхал, пытался мысленно проникнуть по ту сторону образа или запаха. А если надо было догонять дедушку, идти дальше, я старался воссоздать их с закрытыми глазами; я упорно припоминал во всех подробностях линию крыши, оттенок камня, и почему-то — я сам не понимал почему — мне казалось, что они полны до краев и готовы приоткрыться, подарить мне то, чему они служили только оболочкой. Разумеется, такие впечатления не могли вернуть мне утраченную надежду на то, что когда-нибудь я стану поэтом и писателем, потому что всегда относились к обыкновенным вещам, не имеющим ни малейшей познавательной ценности и не связанным ни с какой отвлеченной истиной. Но зато они хотя бы дарили мне безотчетную радость, иллюзию плодотворности, отвлекали от тоски, от ощущения бессилия, которое меня охватывало каждый раз, когда я искал философский сюжет для великого литературного произведения. Но так тяжела была задача, которую ставили перед моим сознанием эти впечатления от формы, запаха или цвета, — угадать, что именно за ними скрывалось, — что я очень быстро начинал искать предлог, чтобы увильнуть от этого труда, не изводить себя такими усилиями. К счастью, родители меня окликали, я чувствовал, что все равно не могу сейчас спокойно продолжать мои поиски, поэтому толку от них не будет, так что лучше мне об этом не думать, пока не вернусь домой, и не утруждать себя заранее понапрасну. И я уже не заботился больше об этой непонятной штуке, которая пряталась то в форму, то в запах, и успокаивался, потому что я ведь унесу ее с собой, защищенную оболочкой образов, под которым найду ее дома живой, как рыбу, которую в те дни, когда меня пускали на рыбалку, приносил в корзинке под слоем травы, чтобы сохранить ее свежей. Дома я отвлекался на другие дела, и в голове у меня (точно так же, как в моей комнате накапливались цветы, которые я нарвал на прогулке, и мелочи, полученные в подарок) копились в беспорядке камень, на котором играл отблеск, крыша, звон колокола, запах листвы, множество разных картин, за которыми давно умерла та угаданная мною действительность, до которой у меня не хватило воли докопаться. Правда, однажды — в тот раз наша прогулка затянулась намного дольше обычного, — когда мы уже возвращались, под вечер нам повезло встретить на полпути доктора Перспье, который несся в экипаже во весь опор, и узнал нас, и предложил подвезти, — я уловил одно впечатление такого рода, но не бросил его, и мне удалось его немного углубить. Меня посадили рядом с кучером, мы летели как ветер, потому что доктору до возвращения в Комбре надо было еще навестить больного в Мартенвиль-ле-Сек; договорились, что мы подождем его перед домом. Дорога сделала поворот, и я испытал вдруг то особое наслаждение, не похожее ни на какое другое: освещенные заходящим солнцем, мне открылись две мартенвильские колокольни, они словно переступали с места на место по мере того, как катил наш экипаж и петляла дорога, а потом показалась и вьевикская, отделенная от мартенвильских долиной и холмом, — она стояла на возвышенном месте, гораздо дальше, но казалась совсем рядом с ними.
Изучая, отмечая форму их шпилей, перемещение очертаний, залитые солнцем стены, я чувствовал, что не могу проникнуть вглубь моего впечатления до конца: что-то остается за этим движением, за этим сиянием, что-то такое, что они словно несли в себе, но одновременно и прятали.
Колокольни казались такими далекими, а мы вроде бы так мало к ним приближались, что я удивился, когда спустя несколько мгновений мы остановились перед мартенвильской церковью. Я не знал, почему так обрадовался, заметив их на горизонте, и докапываться до причин этой радости было тяжело; мне хотелось просто приберечь в памяти эти меняющиеся очертания, а сейчас больше о них не задумываться. И вполне возможно, что, если бы я так и поступил, две колокольни навсегда бы слились с множеством деревьев, крыш, запахов, звуков, которые я один раз отличил от других из-за той смутной радости, которую они мне доставили, но ни разу не попытался в ней разобраться. Пока ждали доктора, я вышел поболтать с родителями. Потом мы поехали дальше, я вернулся на свое место, оглянулся, чтобы еще посмотреть на колокольни, и потом, на повороте, увидел их уже в последний раз. Кучер был не расположен к болтовне, еле отвечал, так что пришлось мне, за неимением другого общества, довольствоваться своим собственным, и я попытался припомнить мои колокольни. Вскоре их контуры и залитые солнцем стены треснули, как трескается корка, и чуть-чуть проступило то, что они от меня прятали; забрезжила мысль, которой не было у меня в голове мгновение назад, и сложилась в слова; и от этого радость, которую я только что испытал, когда смотрел на колокольни, настолько усилилась, что я словно опьянел и уже не мог думать ни о чем другом. Тем временем мы отъехали уже далеко от Мартенвиля, и, обернувшись, я увидел их опять, на этот раз совсем темные, потому что солнце уже зашло. Временами повороты дороги скрывали их от меня, потом они показались в последний раз и наконец пропали из виду. Даже и не думая о том, что в мартенвильских колокольнях таилось что-то похожее на прекрасную фразу, — потому что я испытал радость, когда оно облеклось в слова, — я попросил у доктора карандаш и листок бумаги и, даром что экипаж трясло, набросал, чтобы успокоить свою совесть и дать выход восторгу, вот этот небольшой отрывок, который попался мне в руки позже и в который я внес совсем немного изменений [159]:
Читать дальше