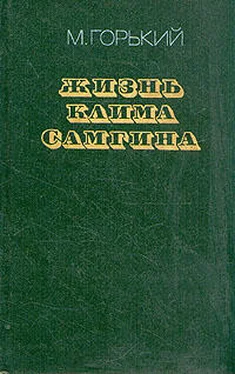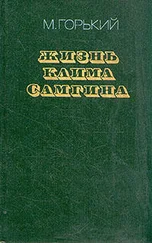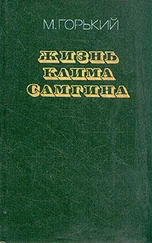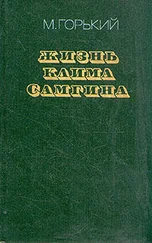Преобладал раздражающий своей яркостью красный цвет; силу его еще более разжигала безличная податливость белого, а угрюмые синие полосы не могли смягчить ослепляющий огонь красного. Там и тут из окон на улицу свешивались куски кумача, и это придавало окнам странное выражение, как будто квадратные рты дразнились красными языками. Некоторые дома были так обильно украшены, что казалось – они вывернулись наизнанку, патриотически хвастливо обнажив мясные и жирные внутренности свои. С восхода солнца и до полуночи на улицах суетились люди, но еще более были обеспокоены птицы, – весь день над Москвой реяли стаи галок, голубей, тревожно перелетая из центра города на окраины и обратно; казалось, что в воздухе беспорядочно снуют тысячи черных челноков, ткется ими невидимая ткань. Полиция усердно высылала неблагонадежных, осматривала чердаки домов на тех улицах, по которым должен был проехать царь. Маракуев, плохо притворяясь не верующим в то, что говорит, сообщал: подряд на иллюминацию Кремля взят Кобозевым, тем торговцем сырами, из лавки которого в Петербурге на Садовой улице предполагалось взорвать мину под каретой Александра Второго. Кобозев приехал в Москву как представитель заграничной пиротехнической фирмы и в день коронации взорвет Кремль.
– Конечно, это похоже на сказку, – говорил Маракуев, усмехаясь, но смотрел на всех глазами верующего, что сказка может превратиться в быль. Лидия сердито предупредила его:
– Не вздумайте болтать об этом при дяде Хрисанфе. Дядя Хрисанф имел вид сугубо парадный; шлифованная лысина его торжественно сияла, и так же сияли ярко начищенные сапоги с лакированными голенищами. На плоском лице его улыбки восторга сменялись улыбками смущения; глазки тоже казались начищенными, они теплились, точно огоньки двух лампад, зажженных в емкой душе дяди.
– Ликует Москва, – бормотал он,, нервно играя кистями пояса, – нарядилась боярыней. Умеет Москва ликовать! Подумайте: свыше миллиона аршин кумача истрачено!
И, вспоминая, что слишком сильный восторг – неприличен, он высчитывал:
– Двести пятьдесят тысяч рубах; армию одеть можно! Он пытался показать молодежи, что относится к предстоящему торжеству иронически, но это плохо удавалось ему, он срывался с тона, ирония уступала место пафосу.
– Второй раз увижу, как великий народ встретит своего молодого вождя, – говорил он, отирая влажные глаза, и, спохватясь, насмешливо кривил губы.
– Идолопоклонство, конечно. «Приидите, поклонимся и припадем цареви и богу нашему» – н-да! Ну все-таки надо посмотреть. Не царь интересен, а народ, воплощающий в него все свои чаяния н надежды.
Он звал Диомидова на улицу, но тот нерешительно отказывался:
– Я, знаете, не люблю скопления народа. – Ну, это, брат, глупости! – возмущался дядя Хрисанф. – Как это – не люблю?
– Видите ли, это не помещается во мне, любовь к народу, – виновато сознавался Диомидов. – Если говорить честно – зачем же мне народ? Я, напротив...
– Ты – с ума сходишь! – кричал дядя Хрисанф. – Что ты, чудак? Как это – не помещается? Что это значит – не помещается?
И решительно тащил юношу за собою на шумные улицы. Клим тоже шел, шел и Маракуев, улыбаясь несколько растерянно.
В окнах, на балконах часто мелькало гипсовое, слепое лицо царя. Маракуев нашел, что царь – курнос.
– Похож на Сократа в молодости, – заметил дядя Хрисанф.
По улицам озабоченно шагали новенькие полицейские чиновники, покрикивая на маляров, на дворников. Ездили на рослых лошадях необыкновенно большие всадники в шлемах и латах; однообразно круглые лица их казались каменными;, тела, от головы до ног, напоминали о самоварах, а ноги были лишние для всадников. Тучи мальчишек сопровождали медных кентавров, неустанно взвизгивая – ура! Оглушительно кричали и взрослые при виде франтоватых кавалергардов, улан, гусар, раскрашенных так же ярко, как деревянные игрушки кустарей Сергеева Посада.
Кричали ура четверым, монголам, одетым в парчу, идольски неподвижным, сидя в ландо, они косенькими глазками смотрели друг на друга; один из них, с вывороченными ноздрями, с незакрытым ртом, белозубый, улыбался мертвой улыбкой, желтое лицо его казалось медным.
– Вот, смотри, – внушал дядя Хрисанф Диомидову, как мальчику, – предки их жгли и грабили Москву, а потомки кланяются ей.
– Да они не кланяются, – они сидят, как совы днем, – пробормотал Диомидов, растрепанный, чумазый, с руками, позолоченными бронзовым порошком; он только утром кончил работать по украшению Кремля.
Читать дальше