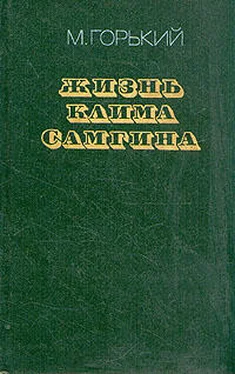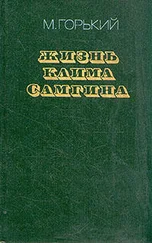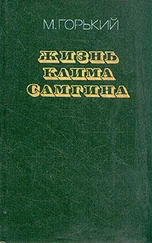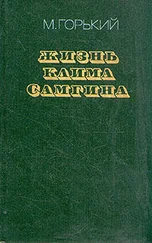– Да, – сказала мать, припудривая прыщик, – он всегда любил риторику. Больше всего – риторику. Но – почему ты сегодня такой нервный? И уши у тебя красные...
– Нездоровится, – сказал Клим. Вечером он лежал в постели с компрессом на голове, а доктор успокоительно говорил:
– Что-нибудь гастрическое. Завтра увидим.
В течение пяти недель доктор Любомудров не мог с достаточной ясностью определить болезнь пациента, а пациент не мог понять, физически болен он или его свалило с ног отвращение к жизни, к людям? Он не был мнительным, но иногда ему казалось, что в теле его работает острая кислота, нагревая мускулы, испаряя из них жизненную силу. Тяжелый туман наполнял голову, хотелось глубокого сна, но мучила бессонница и тихое, злое кипение нервов. В памяти бессвязно возникали воспоминания о прожитом, знакомые лица, фразы.
«Да – был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»
«Что вы озорничаете!»
«Баба богу – второй сорт».
Все эти словечки торчали пред глазами, как бы написанные в воздухе, торчали неподвижно, было в них что-то мертвое, и, раздражая, они не будили никаких дум, а только усиливали недомогание.
Иногда, внезапно, это окисление исчезало, Клим Самгин воображал себя почти здоровым, ехал на дачу, а дорогой или там снова погружался в состояние общей расслабленности. Не хотелось смотреть на людей, было неприятно слышать их голоса, он заранее знал, что скажет мать, Варавка, нерешительный доктор и вот этот желтолицый, фланелевый человек, сосед по месту в вагоне, и грязный смазчик с длинным молотком в руке. Люди раздражали уже только тем, что они существуют, двигаются, смотрят, говорят. Каждый из них насиловал воображение, заставляя думать: зачем нужен он? Возникали нелепые вопросы: зачем этот, скуластый, бреет бороду, а тот ходит с тростью, когда у него сильные, стройные ноги? Женщина ярко накрасила губы, подрисовала глаза, ее нос от этого кажется бескровным, серым и не по лицу уродливо маленьким. Никто не хочет сказать ей, что она испортила лицо свое, и Клим тоже не хотел этого. Он зорко и с жадностью подмечал в людях некрасивое, смешное и все, что, отталкивая его от них, позволяло думать о каждом с пренебрежением и тихой злостью. Но в то же время он смутно чувствовал, что эти его навязчивые мудрствования болезненны, нелепы и бессильны, и чувствовал, что однообразие их все более утомляет его.
Минутами Самгину казалось, что его вместилище впечатлений – то, что называют душой, – засорено этими мудрствованиями и всем, что он знал, видел, – засорено на всю жизнь и так, что он уже не может ничего воспринимать извне, а должен только разматывать тугой клубок пережитого. Было бы счастьем размотать этот клубок до конца. А вслед за тем вспыхивало и обжигало желание увеличить его до последних пределов, так, чтоб он, заполнив все в нем, всю пустоту, и породив какое-то сильное, дерзкое чувство, позволил Климу Самгину крикнуть людям:
«Эй, вы! Я ничего не знаю, не понимаю, ни во что не верю и вот – говорю вам это честно! А все вы – притворяетесь верующими, вы – лжецы, лакеи простейших истин, которые вовсе и не истины, а – хлам, мусор, изломанная мебель, просиженные стулья».
Думая об этом подвиге, совершить который у него не было ни дерзости, ни силы, Клим вспоминал, как он в детстве неожиданно открыл в доме комнату, где были хаотически свалены вещи, отжившие свой срок.
Еще в первые дни неопределимой болезни Клима Лютов с невестой, Туробоевым и Лидией уехал на пароходе по Волге с тем, чтоб побывать на Кавказе и, посетив Крым, вернуться к осени в Москву. Клим отнесся к этой поездке так равнодушно, что даже подумал:
«Я – не ревнив. И не боюсь Туробоева. Лидия – не для него».
На дачах Варавки поселились незнакомые люди со множеством крикливых детей; по утрам река звучно плескалась о берег и стены купальни; в синеватой воде подпрыгивали, как пробки, головы людей, взмахивались в воздух масляно блестевшие руки; вечерами в лесу пели песни гимназисты и гимназистки, ежедневно, в три часа, безгрудая, тощая барышня в розовом платье в круглых, темных очках играла на пианино «Молитву девы», а в четыре шла берегом на мельницу пить молоко, и по воде косо влачилась за нею розовая тень. От этой барышни исходил душный запах тубероз. Бегал длинноногий учитель реального училища, безумно размахивая сачком для ловли бабочек, качался над землей хромой мужик, и казалось, что он обладает невероятной способностью показывать себя одновременно в разных местах. Ходили пестро одетые цыганки и, предлагая всем узнать будущее, воровали белье, куриц, детские игрушки.
Читать дальше