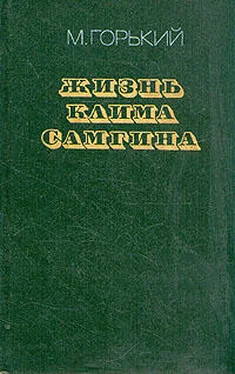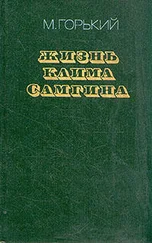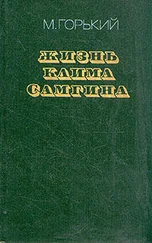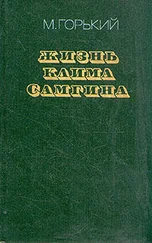– Жених был неказистый, рыжеватый, наянливый такой... Пакостник! – вдруг вскрикнула она.
– Во-от, вот оно! – с явным восхищением и сладостно воскликнул брат Василий.
Все другие сидели смирно, безмолвно, – Самгину казалось уже, что и от соседей его исходит запах клейкой сырости. Но раздражающая скука, которую испытывал он до рассказа Таисьи, исчезла. Он нашел, что фигура этой женщины напоминает Дуняшу: такая же крепкая, отчетливая, такой же маленький, красивый рот. Посмотрев на Марину, он увидел, что писатель шепчет что-то ей, а она сидит все так же величественно.
«Совершенный идол», – снова подумал он, досадуя, что не может обнаружить отношения Марины ко всему, что происходит здесь.
– Вскоре после венца он и начал уговаривать меня:
«Если хозяин попросит, не отказывай ему, я не обижусь, а жизни нашей польза будет», – рассказывала Таисья, не жалуясь, но как бы издеваясь. – А они – оба приставали – и хозяин и зять его. Ну, что же? – крикнула она, взмахнув головой, и кошачьи глаза ее вспыхнули яростью. – С хозяином я валялась по мужеву приказу, а с зятем его – в отместку мужу...
– Эге-е! – насмешливо раздалось из сумрака, люди заворчали, зашевелились. Лидия привстала, взмахнув рукою с ключом, чернобородый Захарий пошел на голос и зашипел; тут Самгину показалось, что Марина улыбается. Но осторожный шумок потонул в быстром потоке крикливой и уже почти истерической речи Таисьи.
– С ним, с зятем, и застигла меня жена его, хозяинова дочь, в саду, в беседке. Сами же, дьяволы, лишили меня стыда и сами уговорились наказать стыдом.
Она задохнулась, замолчала, двигая стул, постукивая ножками его по полу, глаза ее фосфорически блестели, раза два она открывала рот, но, видимо, не в силах сказать слова, дергала головою, закидывая ее так высоко, точно невидимая рука наносила удары в подбородок ей. Потом, оправясь, она продолжала осипшим голосом, со свистом, точно сквозь зубы:
– В-вывезли в лес, раздели догола, привязали руки, ноги к березе, близко от муравьиной кучи, вымазали все тело патокой, сели сами-то, все трое – муж да хозяин с зятем, насупротив, водочку пьют, табачок покуривают, издеваются над моей наготой, ох, изверги! А меня осы, пчелки жалят, муравьи, мухи щекотят, кровь мою пьют, слезы пьют. Муравьи-то – вы подумайте! – ведь они и в ноздри и везде ползут, а я и ноги крепко-то зажать не могу, привязаны ноги так, что не сожмешь, – вот ведь что!
Близко от Самгина кто-то сказал вполголоса:
– Ой, бесстыдница...
Самгин видел, что пальцы Таисьи побелели, обескровились, а лицо неестественно вытянулось. В комнате было очень тихо, точно все уснули, и не хотелось смотреть ни на кого, кроме этой женщины, хотя слушать ее рассказ было противно, свистящие слова возбуждали чувство брезгливости.
– Сначала-то я молча плакала, не хотелось мне злодеев радовать, а как начала вся эта мошка по лицу, по глазам ползать... глаза-то жалко стало, ослепят меня, думаю, навеки ослепят! Тогда – закричала я истошным голосом, на всех людей, на господа бога и ангелов хранителей, – кричу, а меня кусают, внутренности жгут – щекотят, слезы мои пьют... слезы пьют. Не от боли кричала, не от стыда, – какой стыд перед ними? Хохочут они. От обиды кричу: как можно человека мучить? Загнали сами же куда нельзя и мучают... Так закричала, что не знаю, как и жива осталась. Ну, тут и муженек мой закричал, отвязывать меня бросился, пьяный. А я – как в облаке огненном...
Таисья пошатнулась, чернобородый во-время поддержал ее, посадил на стул. Она вытерла рот косою своей и, шумно, глубоко вздохнув, отмахнулась рукою от чернобородого.
– Избили они его, – сказала она, погладив щеки ладонями, и, глядя на ладони, судорожно усмехалась. – Под утро он говорит мне: «Прости, сволочи они, а не простишь – на той же березе повешусь». – «Нет, говорю, дерево это не погань, не смей, Иуда, я на этом дереве муки приняла. И никому, ни тебе, ни всем людям, ни богу никогда обиды моей не прощу». Ох, не прощу, нет уж! Семнадцать месяцев держал он меня, все уговаривал, пить начал, потом – застудился зимою...
И, облегченно вздохнув, она сказала громко, твердо:
– Издох.
Люди не шевелились, молчали. Тишина продолжалась, вероятно, несколько секунд, становясь с каждой секундой как будто тяжелее, плотней.
Потом вскочил брат Василий и, размахивая руками, затрещал:
– Слышали, братья-сестры? Она – не каялась, она – поучала! Все мы тут опалены черным огнем плоти, дыханием дьявола, все намучены...
Встала Лидия и, постучав ключом, сердито нахмуря брови, резким голосом сказала:
Читать дальше