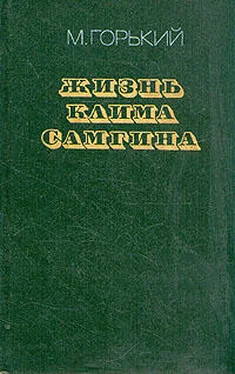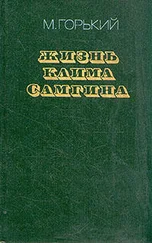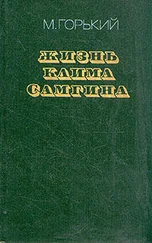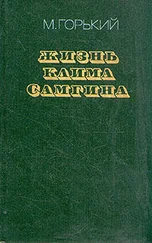Насмешливая прибаутка снова вызвала у нее слезы; смахнув их со щек пальцами, она задорно предложила:
– Чокнемся! И давай напьемся! Самгин усмехнулся, глядя на нее.
– Ну? Что? – спросила она и, махнув на него салфеткой, почти закричала: – Да – сними ты очки! Они у тебя как на душу надеты – право! Разглядываешь, усмехаешься... Смотри, как бы над тобой не усмехнулись! Ты – хоть на сегодня спусти себя с цепочки. Завтра я уеду, когда еще встретимся, да и – встретимся ли? В Москве у тебя жена, там я тебе лишняя.
«Ей хочется скандалить, – сообразил Самгин, снимая очки. – Не думал, что она истеричка».
Заставляя себя любезно улыбаться, он присматривался к Дуняше с тревогой и видел: щеки у нее побледнели, брови нахмурены; закусив губу, прищурясь, она смотрела на огонь лампы, из глаз ее текли слезинки. Она судорожно позванивала чайной ложкой по бутылке.
«Какое злое лицо», – подумал Самгин, вздохнув и наливая вино в стаканы. Коротенькими пальцами дрожащей руки Дуняша стала расстегивать кофточку, он хотел помочь ей, но Дуняша отвела его руку.
– Мне душно.
И, заглянув в его лицо, тихо сказала:
– Обидел ты меня тогда, после концерта. Самгин, отодвигаясь от нее, спросил:
– Чем?
– Нет, не обидел, а удивил. Вдруг, такой не похожий ни на кого, заговорил, как мой муж!
Сказала она это действительно с удивлением и, передернув плечами, точно от холода, сжав кулаки, постучала ими друг о друга.
– Когда я рассказала о муже Зотовой, она сразу поняла его, и правильно. Он, говорит, революционер от... меланхолии! – нет? От другого, как это? Когда ненавидят всех?
Теперь она стучала кулаком – и больно – по плечу Самгина; он подсказал:
– Мизантропии?
– Вот! От этого. Я понимаю, когда ненавидят полицию, попов, ну – чиновников, а он – всех! Даже Мотю, горничную, ненавидел; я жила с ней, как с подругой, а он говорил: «Прислуга – стесняет, ее надобно заменить машинами». А по-моему, стесняет только то, чего не понимаешь, а если поймешь, так не стесняет.
Она вскочила на ноги и, быстро топая по комнате, полусердито усмехаясь, продолжала:
– У Моти был дружок, слесарь, учился у Шанявского, угрюмый такой, грубый, смотрел на меня презрительно. И вдруг я поняла, что он... что у него даже нежная душа, а он стыдится этого. Я и говорю: «Напрасно вы, Пахомов, притворяетесь зверем, я вас насквозь вижу!» Он сначала рассердился: «Вы, говорит, ничего не видите и даже не можете видеть!» А потом сознался: «Верно, сердце у меня мягкое и очень не в ладу с умом, меня ум другому учит». Он действительно умный был, образованный, и вот уж он – революционер от любви к своему брату рабочему! Он дрался на Каланчевской площади и в Каретном, там ему офицер плечо прострелил, Мотя спрятала его у меня, а муж...
Остановилась, прищурясь, посмотрела в угол, потом, подойдя к столу, хлебнула вина, погладила щеки.
– Ну, чорт с ним, с мужем! Отведала и – выплюнула.
Она снова, торопясь и бессвязно, продолжала рассказывать о каком-то веселом товарище слесаря, о революционере, который увез куда-то раненого слесаря, – Самгин слушал насторожась, ожидая нового взрыва; было совершенно ясно, что она, говоря все быстрей, торопится дойти до чего-то главного, что хочет сказать. От напряжения у Самгина даже пот выступил на висках.
– По-моему – человек живет, пока любит, а если он людей не любит, так – зачем он нужен?
Наклонясь к Самгину, она схватила руками голову его и, раскачивая ее, горячо сказала в лицо ему:
– И ты всех тихонько любишь, но тебе стыдно и притворяешься строгим, недовольным, молчишь и всех молча жалеешь, – вот какой ты! Вот...
Самгин ожидал не этого; она уже второй раз как будто оглушила, опрокинула его. В глаза его смотрели очень яркие, горячие глаза; она поцеловала его в лоб, продолжая говорить что-то, – он, обняв ее за талию, не слушал слов. Он чувствовал, что руки его, вместе с физическим теплом ее тела, всасывают еще какое-то иное тепло. Оно тоже согревало, но и смущало, вызывая чувство, похожее на стыд, – чувство виновности, что ли? Оно заставило его прошептать:
– Полно, ты ошибаешься...
– Нет, я не хуже собаки знаю, кто – каков! Я не умная, а – знаю...
Через час утомленный Самгин сидел в кресле и курил, прихлебывая вино. Среди глупостей, которые наговорила ему Дуняша за этот час, в памяти Самгина осталась только одна:
«Вот когда я стала настоящей бабой», – сказала она, пролежав минут пять в состоянии дремотном или полуобморочном. Он тоже несколько раз испытывал приступы желания сказать ей какие-то необыкновенные слова, но – не нашел их.
Читать дальше