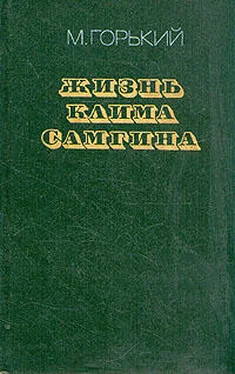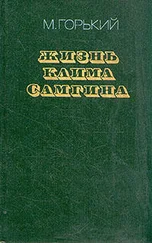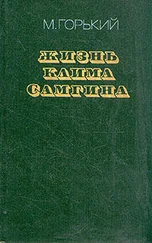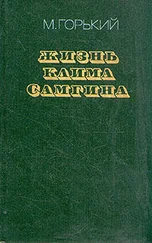– Защищать такую шваль, а она...
Лысый, покачиваясь, держа руки по швам, мычал.
– Позовите дежурного старшину! – крикнул человек во фраке и убежал в комнату картежников.
– Личико-то какое – ух! – довольно равнодушно сказала Марина.
Самгин, не отрываясь, смотрел на багровое, уродливо вспухшее лицо и на грудь поручика; дышал поручик так бурно и часто, что беленький крест на груди его подскакивал. Публика быстро исчезала, – широкими шагами подошел к поручику человек в поддевке и, спрятав за спину руку с папиросой, спросил:
– Простите, – в чем дело?
– Пошел прочь, – устало сказал поручик, оттолкнув лысого, попытался взять рюмку с подноса, опрокинул ее и, ударив кулаком по стойке, засипел.
– А ты что, нарядился мужиком, болван? – закричал он на человека в поддевке. – Я мужиков – порю! Понимаешь? Песенки слушаете, картеж, биллиарды, а у меня люди обморожены, чорт вас возьми! И мне – отвечать за них.
Поручик, широко размахнув рукою, ударил себя в грудь и непечатно выругался...
– Позвоните коменданту, – крикнул бородатый человек и, схватив стул, отгородился им от поручика, – он, дергая эфес шашки, не придерживал ножны левой рукой.
– Ну – пойдем, – предложила Марина. Самгин отрицательно качнул головою, но она взяла его под руку и повела прочь. Из биллиардной выскочил, отирая руки платком, высокий, тонконогий офицер, – он побежал к буфету такими мелкими шагами, что Марина заметила:
– Бежит, а – не торопится.
– Делают революцию, потом орут, негодяи, – защищай! – кричал поручик; офицер подошел вплотную к нему и грозно высморкался, точно желая заглушить бешеный крик.
– У тебя ужасное лицо, что ты? – шептала Марина в ухо Самгину, – он пробормотал:
– Я в одном купе с ним ехал. Он – на усмирение. Он – ненормален...
– Ой, нехорош ты, нехорош, – сказала Марина, входя на лестницу.
Дробно звонил колокольчик, кто-то отчаянно взывал:
– Господа! Начинается второе отделение концерта...
На лестнице Марина выпустила руку Самгина, – он тотчас же сошел вниз в гардеробную, оделся и пошел домой. Густо падали хлопья снега, тихонько шуршал ветер, уплотняя тишину.
«Чего я испугался? – соображал Самгин, медленно шагая. – Нехорош, сказала она... Что это значит? Равнодушная корова», – обругал он Марину, но тотчас же почувствовал, что его раздражение не касается этой женщины.
«Поручик пьян или сошел с ума, но он – прав! Возможно, что я тоже закричу. Каждый разумный человек должен кричать: «Не смейте насиловать меня!»
Вместе е пьяным ревом поручика в памяти звучали слова о старинной, милой красоте, о ракушках и водорослях на киле судна, о том, что революция кончена.
«Ложь! – мысленно кричал Самгин. – Не кончена. Не может быть кончена, пока не перестанут пытать мое я...»
Он видел грубоватую наивность своих мыслей, и это еще более расстраивало, оскорбляло его. В этом настроении обиды за себя и на людей, в настроении озлобленной скорби, которую размышление не могло ни исчерпать, ни погасить, он пришел домой, зажег лампу, сел в угол в кресло подальше от нее и долго сидел в сумраке, готовясь к чему-то. Сидел и привычно вспоминал все, мимо чего он прошел и что – так или иначе, – но всегда враждебно задевало его. Напомнил себе, что таких обреченных одиночеству людей, вероятно, тысячи и тысячи и, быть может, он, среди них, – тот, кто страдает наиболее глубоко. Время, тяжело нагруженное воспоминаниями, тянулось крайне медленно; часы давно уже отметили полночь, и Самгин мельком подумал:
«Поклонники милой старины кормят ее в каком-нибудь трактире».
Неприятно было сознаться, что он ждет Дуняшу.
«Я жду не ее. Я – не влюбленный. Не слуга».
Но когда в коридоре зашуршало, точно ветер пролетел, и вбежала Дуняша, схватила его холодными лапками за щеки, поцеловала в лоб, – Самгин почувствовал маленькую радость.
– Ждешь? – быстрым шепотком опрашивала она. – Милый! Я так и думала: наверно – ждет! Скорей, – идем ко мне. Рядом с тобой поселился какой-то противненький и, кажется, знакомый. Не спит, сейчас высунулся в дверь, – шептала она, увлекая его за собою; он шел и чувствовал, что странная, горьковато холодная радость растет в нем.
– Не топай, – попросила Дуняша в коридоре. – Они, конечно, повезли меня ужинать, это уж – всегда! Очень любезные, ну и вообще... А все-таки – сволочь, – сказала она, вздохнув, входя в свою комнату и сбрасывая с себя верхнее платье. – Я ведь чувствую: для них певица, сестра милосердия, горничная – все равно прислуга.
Читать дальше