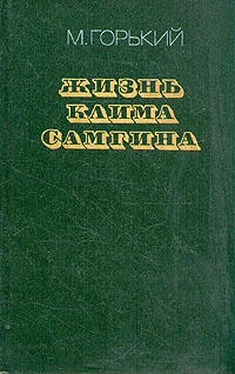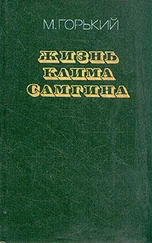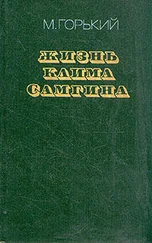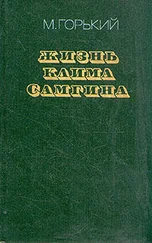— Знаете Акульку? Игрушка, выточенная из дерева, а в ней еще такая же и еще, штук шесть таких, а в последней, самой маленькой — деревянный шарик, он уже не раскрывается. Я имел поручение открыть его. Девица эта организовала побег из ссылки для одного весьма солидного товарища. И вообще — девица, осведомленная в конспиративной технике. Арестовали ее на явочной квартире, и уже третий раз. Я ожидал встретить эдакую сердитую волчицу и увидел действительно больную фигурку, однолюбку революционной идеи, едва ли даже понятой ею, но освоенной эмоционально, как верование.
Тагильский вздохнул и проговорил как будто с сожалением:
— Такие — не редки, чорт их возьми. Одну — Ванскок, Анну Скокову — весьма хорошо изобразил Лесков в романе «На ножах», — читали?
— Нет, — сказал Самгин, слушая внимательно.
— Плохо написанная, но интересная книга. Появилась на год, на два раньше «Бесов». «Взбаламученное море» Писемского тоже, кажется, явилось раньше книги Достоевского?
— Не помню.
— Ну, чорт с ним, с Достоевским, не люблю! «Должен бы любить», — подумал Самгин.
— Так вот, Акулька. Некрасива, маленькая, но обладает эдакой... внутренней миловидностью... Умненькая душа, и в глазах этакая нежность... нежность няньки, для которой люди прежде всего — младенцы, обреченные на трудную жизнь. Поэтому сия революционная девица сказала мне: «Я вас вызвала, чтоб вы распорядились перевести меня в больницу, у меня — рак, а вы — допрашиваете меня. Это — нехорошо, нечестно. Вы же знаете, что я ничего не скажу. И — как вам не стыдно быть прокурором в эти дни, когда Столыпин...» ну, и так далее. Почему-то прибавила, что я умный, добрый и посему — особенно должен стыдиться. Вообще — отчитала меня, как покойника. Это был момент глубоко юмористический. Разумеется, я сказал ей, что прокурор обязан быть умным, а доброта его есть необходимая по должности справедливость. Лицо ее сделалось удивительно скучным. И мне тоже стало скучно. Ну, откланялся и ушел. Тут и сказке конец.
— А она? — спросил Самгин, наблюдая, как Тагильский ловит папиросу в портсигаре.
— А ее вскоре съел рак.
Тагильский встал и, подходя к столу, проговорил вполголоса:
— Утомил я вас рассказами. Бывают такие капризы памяти, — продолжал он, разливая вино по стаканам. — Иногда вспоминают, вероятно, для того, чтоб скорее забыть. Разгрузить память.
Он протянул руку Самгину, в то же время прихлебывая из стакана.
— Ну, я — ухожу. Спасибо... за внимание. Родился я до того, как отец стал трактирщиком, он был грузчиком на вагонном дворе, когда я родился. Трактир он завел, должно быть, на какие-то темные деньги.
В прихожей, одеваясь, он снова заговорил:
— Воспитывают нас как мыслящие машинки и — не на фактах, а для искажения фактов. На понятиях, но не на логике, а на мистике понятий и против логики фактов.
Самгин осторожно заметил:
— Воспитывают как носителей энергии, творящей культуру...
— Ну-у — где там? Культура создается по предуказаниям торговцев колониальными товарами.
— Кормите вы — хорошо, — сказал он на прощание.
— Очень рад, что нравится. Заходите.
— Не премину.
Самгин посмотрел в окно, как невысокая, плотненькая фигурка, шагая быстро и мелко, переходит улицу, и, протирая стекла очков куском замши, спросил себя:
«Почему необходимо, чтоб этот и раньше неприятный, а теперь подозрительный человек снова встал на моем пути?»
Но тотчас же подумал:
«Жаловаться — не на что. Он — едва ли хитрит. Как будто даже и не очень умен. О Любаше он, вероятно, выдумал, это — литература. И — плохая. В конце концов он все-таки неприятный человек. Изменился? Изменяются люди... без внутреннего стержня. Дешевые люди».
Мелькнула догадка, что в настроении Тагильского есть что-то общее с настроением Макарова, Инокова. Но о Тагильском уже не хотелось думать, и, торопясь покончить с ним, Самгин решил:
«Должно быть [боролся против] каких-то мелких противозаконностей, подлостей и — устал. Или — испугался».
Мелкие мысли одолевали его, он закурил, прилег на диван, прислушался: город жил тихо, лишь где-то у соседей стучал топор, как бы срубая дерево с корня, глухой звук этот странно был похож на ленивый лай большой собаки и медленный, мерный шаг тяжелых ног.
«Смир-рно-о!» — вспомнил он командующий крик унтер-офицера, учившего солдат. Давно, в детстве, слышал он этот крик. Затем вспомнилась горбатенькая девочка: «Да — что вы озорничаете?» «А, может, мальчика-то и не было?»
Читать дальше