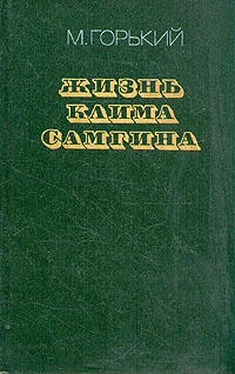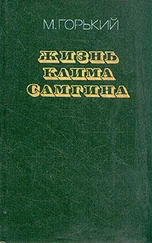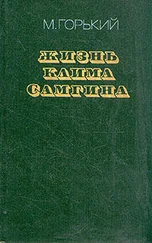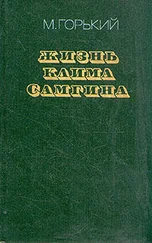— Отечество в опасности, — вот о чем нужно кричать с утра до вечера, — предложил он и продолжал говорить, легко находя интересные сочетания слов. — Отечество в опасности, потому что народ не любит его и не хочет защищать. Мы искусно писали о народе, задушевно говорили о нем, но мы плохо знали его и узнаём только сейчас, когда он мстит отечеству равнодушием к судьбе его.
— Чепуха какая, — невежливо сказал человек, прижатый в угол, — его слова тотчас заглушил вопрос знакомого Самгину адвоката:
— А что вы скажете о евреях, которые погибают на фронтах от любви к России, стране еврейских погромов?
— Меня не удивляет, что иноверцы, инородцы защищают интересы их поработителей, римляне завоевали мир силами рабов, так было, так есть, так будет! — очень докторально сказал литератор.
— Ой, не надо пророчеств! Поймите, еврей дерется за интересы человека, который считает его, еврея, расовым врагом.
Ему возразил редактор Иерусалимский, большой, склонный к тучности человек, с бледным лицом, украшенным нерешительной бородкой.
— Кричать, разумеется, следует, — вяло и скучно сказал он. — Начали с ура, теперь вот караул приходится кричать. А покуда мы кричим, немцы схватят нас за шиворот и поведут против союзников наших. Или союзники помирятся с немцами за наш счет, скажут:
«Возьмите Польшу, Украину, и — ну вас к чорту, в болото! А нас оставьте в покое».
Коренастый человек с шершавым лицом, тоже литератор, покрякивая, покашливая, растирая ладонью темя, покрытое серым пухом, сообщил:
— Летом уже велись переговоры с немцами о сепаратном мире.
Беседа тянулась медленно, неохотно, люди как будто осторожничали, сдерживались, может быть, они устали от необходимости повторять друг пред другом одни и те же мысли. Большинство людей притворялось, что они заинтересованы речами знаменитого литератора, который, утверждая правильность и глубину своей мысли, цитировал фразы из своих книг, причем выбирал цитаты всегда неудачно. Серенькая старушка вполголоса рассказывала высокой толстой женщине в пенснэ с волосами, начесанными на уши:
— Он у меня очень нервный. Ночей не спит, все думает, все сочиняет да крепкий чай пьет.
И лишь изредка, но все чаще и всегда в том углу, под темной картиной, вспыхивало раздражение, звучали недобрые голоса, колющие словечки и разматывался, точно шелковая лента, суховатый тенористый голосок:
— Ведь это, знаете, даже смешно, что для вас судьба стопятидесятимиллионного народа зависит от поведения единицы, да еще такой, как Гришка Распутин...
К таким голосам из углов Самгин прислушивался все внимательней, слышал их все более часто, но на сей раз мешал слушать хозяин квартиры, — размешивая сахар в стакане очень крепкого чая, он пророчески громко и уверенно говорил:
— Люди почувствуют себя братьями только тогда, когда поймут трагизм своего бытия в космосе, почувствуют ужас одиночества своего во вселенной, соприкоснутся прутьям железной клетки неразрешимых тайн жизни, жизни, из которой один есть выход — в смерть.
Он хлебнул ложечку чая и, найдя, что он недостаточно горяч или не сладок, выплеснул половину влаги из стакана в полоскательную чашку, подвинул стакан свой под кран самовара, увещевая торжественно, мягко и вкрадчиво:
— Социалисты, большевики мечтают объединить людей на всеобщей сытости. Нет, нет! Это — наивно. Мы видим, что сытые враждуют друг с другом, вот они воюют! Всегда воевали и будут! Думать, что люди могут быть успокоены сытостью, — это оскорбительно для людей.
— Это, знаете, какая-то рыбья философия, ей-богу! — закричал человек из угла, — он встал, взмахнув рукой, приглаживая пальцами встрепанные рыжеватые волосы. — Это, знаете, даже смешно слушать...
— Разрешите мне кончить, — очень вежливо сказал литератор.
— Нет, уже кончать буду я... то есть не — я, а рабочий класс, — еще более громко и решительно заявил рыжеватый и, как бы отталкиваясь от людей, которые окружали его, стал подвигаться к хозяину, говоря:
— Вы уж — кончили! Ученая ваша, какая-то там литературная, что ли, квалификация дошла до конца концов, до смерти. Ставьте точку. Слово и дело дается вновь прибывшему в историю, да, да!
— Батюшки, неприятный какой, — забормотала серая старушка, обращаясь к Самгину. — А Леонидушка-то не любит, если спорят с ним. Он — очень нервный, ночей не спит, все сочиняет, все думает да крепкий чай пьет.
— Рабочий класс хочет быть сытым и хочет иметь право на квалификацию, а для этого, извините, он должен вырвать власть из рук сытых людей. Вырвать. С боем! Вот как. Довели до того, что равноценной человеку является грошовая бумажка, на которой напечатано, что она — рубль, а то и сто рублей. Даже марки почтовые как деньги ходят. Сказано: господство банков над промышленностью — это значит монополия финансового капитала, значит — вся работа превращается в деньги, в бессмысленность, в идиотство. Господствует банкир, миллионщик, чорт его душу возьми, разорвал трудовой народ на враждебные нация... вон какую войнищу затеял, а вы — чаек пьете и рыбью философию разводите... Как не стыдно!
Читать дальше