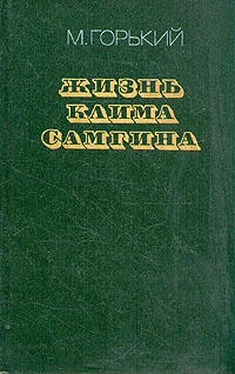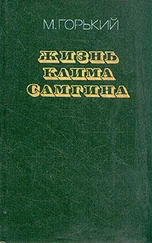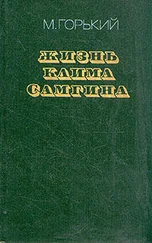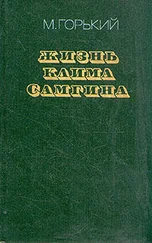Ничего нового не было в этих мыслях, но они являлись в связи более крепкой и с большей уверенностью, чем когда-либо раньше.
На рассвете поезд медленно вкатился в снежную метель, в свист и вой ветра, в суматоху жизни города, тесно набитого солдатами. Они толпились на вокзале, ветер гонял их по улицам, группами и по одному, они шагали пешком, ехали верхом на лошадях и на зеленых телегах, везли пушки, и всюду в густой, холодно кипевшей снежной массе двигались, мелькали серые фигуры, безоружные и с винтовками на плече, горбатые, с мешками на спинах. Снег поднимался против них с мостовой, сыпался на головы с крыш домов, на скрещении улиц кружились и свистели вихри.
Клим Иванович Самгин был одет тепло, удобно и настроен мужественно, как и следовало человеку, призванному участвовать в историческом деле. Осыпанный снегом необыкновенный извозчик в синей шинели с капюшоном, в кожаной финской шапке, краснолицый, усатый, очень похожий на портрет какого-то исторического генерала, равнодушно, с акцентом латыша заявил Самгину, что в гостиницах нет свободных комнат.
Седые усы его росли вверх к ушам, он был очень большой, толстый, и экипаж был большой, а лошадь — маленькая, тощая, и бежала она мелким шагом, как старушка. Извозчик свирепо выкрикивал:
— Оё, оё! — его крепко ругали, один солдат даже толкнул в бок лошади прикладом ружья.
В трех гостиницах места действительно не оказалось, в четвертой заявили, что дают каждую комнату на двоих. В комнате, отведенной Самгину, неряшливо разбросана была одежда военного, на столе лежала сабля и бинокль, в кресле — револьвер, привязанный к ремню, за ширмой кто-то всхрапывал, как ручная пила. Самгин постоял перед мутным зеркалом, приводя в порядок измятый костюм, растрепанные волосы, нашел, что лицо у него достаточно внушительно, и спустился в ресторан пить кофе. К нему тотчас же подошел высокий человек с подвязанной челюстью и сквозь зубы спросил: не он ли эвакуирует какой-то завод? А вместе с официантом, который принес кофе, явился и бесцеремонно сел к столу рыжеватый и, задумчиво рассматривая ногти свои, спросил скучным голосом:
— Что же вы намерены делать с вашим сахаром? Ой, извините, это — не вы. То есть вы — не тот... Вы — по какому поводу? Ага! Беженцы. Ну вот и я тоже. Командирован из Орла. Беженцев надо к нам направлять, вообще — в центр страны. Но — вагонов не дают, а пешком они, я думаю, перемерзнут, как гуси. Что же мы будем делать?
Говорил он так, что было ясно: думает не о том, что говорит. Самгин присмотрелся к его круглому лицу с бородавкой над правой бровью и подумал, что с таким лицом артисты в опере «Борис Годунов» поют роль Дмитрия.
Самгин отметил, что только он сидит за столом одиноко, все остальные по двое, по трое, и все говорят негромко, вполголоса, наклоняясь друг к другу через столы. У двери в биллиардную, где уже щелкали шары, за круглым столом завтракают пятеро военных, они, не стесняясь, смеются, смех вызывает дородный, чернобородый интендант в шелковой шапочке на голове, он рассказывает что-то, густой его бас звучит однотонно, выделяется только часто повторяемое:
— Я говрю: ваш прес-тво...
— Чудовищная путаница, — говорил человек с бородавкой. — Все что-то теряют, чего-то ищут. Из Ярославля в Орел прибыл вагон холста, немедленно был отправлен сюда, а немедленно здесь — исчез.
— Мыло, — сказал кто-то за спиной Самгина.
— Что? — небрежно спросил сосед Самгина, заглядывая через его плечо.
— Мыло тоже украли.
— Почему — украли?
— Почему воруют? Очевидно — спорт...
— Почему вы думаете, что украли?
— А как прикажете думать?
Клим Иванович Самгин был утомлен впечатлениями бессонной ночи. Равнодушно слушая пониженный говор людей, смотрел в окно, за стеклами пенился густой снег, мелькали в нем бесформенные серые фигуры, и казалось, что вот сейчас к стеклам прильнут, безмолвно смеясь, бородатые, зубастые рожи.
— Послушайте, — обратился он к официанту, — нельзя ли достать рюмку водки?
— Не надо, — дай две чашки, — сказал человек с бородавкой и вынул из-за пазухи плоскую флягу: — Коньяк, Мартель. А они вас денатуратом угостят.
— Благодарю, но...
— Ну, что там? Мы — на войне.
Затем, наливая коньяк в чашки, он назвал себя:
— Яков Петрович Пальцев. — Посмотрев в лицо Самгина тяжелым стесняющим взглядом мутноватых глаз неопределимого цвета, он взмахнул головой, опрокинул коньяк в рот и, сунув за щеку кусок сахара, болезненно наморщил толстый нос. Бесцеремонность Пальцева, его небрежная речь, безучастный взгляд мутных глаз — все это очень возбуждало любопытство Самгина; слушая скучный голос, он определял:
Читать дальше