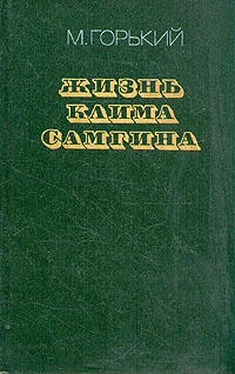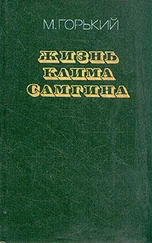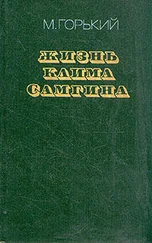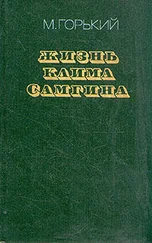Тут он сделал перерыв, отхлебнул глоток чая, почесал правый висок ногтем мизинца и, глубоко вздохнув, продолжал:
— Итак, Россия, отечество наше, будет праздновать триста лет власти людей, о которых в высшей степени трудно сказать что-либо похвальное. Наш конституционный царь начал свое царствование Ходынкой, продолжил Кровавым воскресеньем 9 Января пятого года и недавними убийствами рабочих Ленских приисков.
— Вы забыли о войне с Москвой, — крикнул кто-то, не видимый из темного угла.
— Нет, не забыл, — откликнулся Самгин. — Я все помню, но останавливаюсь на деяниях самодержавия наиболее эффектных.
— Уж чего эффектнее!
— Московские события пятого года я хорошо знаю, но у меня по этому поводу есть свое мнение, и — будучи высказано мною сейчас, — оно отвело бы нас далеко в сторону от избранной мною темы.
— Просим не прерывать, — мрачно и угрожающе произнес высокий человек с длинной, узкой бородой и закрученными в кольца усами. Он сидел против Самгина и безуспешно пытался поймать ложкой чаинку в стакане чая, давно остывшего.
Клим Иванович Самгин продолжал говорить. Он выразил — в форме вопроса — опасение: не пойдет [ли] верноподданный народ, как в 904 году, на Дворцовую площадь и не встанет ли на колени пред дворцом царя по случаю трехсотлетия.
— Мы, русские, слишком охотно становимся на колени не только пред царями и пред губернаторами, но и пред учителями. Помните:
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колена.
— Неверно цитируете, — с удовольствием отметил человек из угла.
— Заметив, как легко мы преклоняем колена, — этой нашей склонностью воспользовалась Япония, а вслед за нею — немцы, заставив нас заключить с ними торговый договор, выгодный только для них. Срок действия этого договора истекает в четырнадцатом году. Правительство увеличивает армию, усиливает флот, поощряет промышленность, работающую на войну. Это — предусмотрительно. Балканские войны никогда еще не обходились без нашего участия...
— Мне кажется возможным, что самодержавие в год своего трехвекового юбилея предложит нам — в качестве подарка — войну.
— А даже маленькая победа может принести нам большой вред, — крикнул человек дз угла, бесцеремонно перебив речь Самгина, и заставил его сказать:
— Я — кончил.
Гости молчали, ожидая, что скажет хозяин. Величественный, точно индюк, хозяин встал, встряхнул полуседой курчавой головой артиста, погладил ладонью левой руки бритую щеку, голубоватого цвета, и, сбивая пальцем пепел папиросы в пепельницу, заговорил сдобным баритоном:
— Очень интересная речь. Разрешу себе подчеркнуть только один ее недостаток: чуть-чуть много истории. Ах, господа, история! — вполголоса н устало воскликнул он. — Кто знает ее? Она еще не написана, нет! Ее писали, как роман, для утешения людей, которые ищут и не находят смысла бытия, — я говорю не о временном смысле жизни, не о том, что диктует нам властное завтра, а о смысле бытия человечества, засеявшего плотью своей нашу планету так тесно. Историю пишут для оправдания и прославления деяний нации, расы, империи. В конце концов история — это памятная книга несчастий, страданий и вынужденных преступлений наших предков. И внимательное чтение истории внушает нам более убедительно, чем евангелие: будьте милостивы друг к другу.
Он устало прикрыл глаза, покачал головою, красивым движением кисти швырнул папиросу в пепельницу, — швырнул ее, как отыгранную карту, и, вздохнув глубоко, вскинув энергично красивую голову, продолжал:
— История жизни великих людей мира сего — вот подлинная история, которую необходимо знать всем, кто не хочет обольщаться иллюзиями, мечтами о возможности счастья всего человечества. Знаем ли мы среди величайших людей земли хоть одного, который был бы счастлив? Нет, не знаем... ^ утверждаю: не знаем и не можем знать, потому что даже при наших очень скромных представлениях о счастье — оно не было испытано никем из великих.
Лицо его приняло горестное выражение, и в сочном голосе тоже звучала горечь. Он играл голосом и словами с тонким, отлично разработанным искусством талантливого лицедея, удивляя обилием неожиданных интонаций, певучестью слов, которыми он красиво облекал иронию и печаль, тихий гнев и лирическое сознание безнадежности бытия. С чувством благоговения и обожания он произносил имена — Леонардо Винчи, Джонатан Свифт, Верлен, Флобер, Шекспир, Байрон, Пушкин, Лермонтов, — бесконечное количество имен, — и называл всех носителей их великомучениками:
Читать дальше