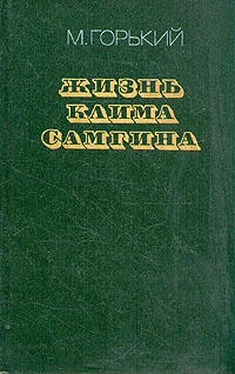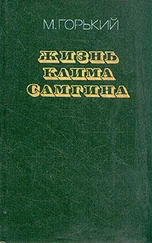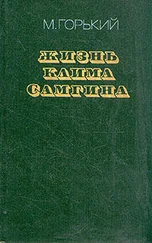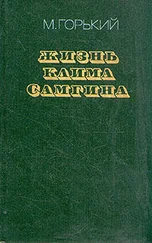Самгин подумал: не следовало бы человеку с бородой говорить в таком тоне.
— Клевета! — крикнул кто-то, вслед за ним два-три голоса повторили это слово, несколько человек, вскочив на ноги, закричали, размахивая руками в сторону Кутузова.
— Вы не смеете...
— Ложь!
— А — «Вехи»? «Вехи»?
— Ага!
— А определение демократии как «грядущего хама»?
— Как гуннов, от которых «хранители мысли и веры» должны бежать, прятаться в пещеры и катакомбы.
— В России нет катакомб!
— Неправда! Киевская лавра — катакомбы...
— В Одессе тоже катакомбы есть.
— Среди русской интеллигенции нет предателей.
— Сколько угодно!
— Начните со Льва Тихомирова...
— Героическая жизнь интеллигенции засвидетельствована историей...
— Позвольте! Он говорил не о всей интеллигенции в целом...
Кутузов смеялся, борода его тряслась, он тоже выкрикивал:
— Позвольте, я не кончил...
— И не надо.
— Знаем вас, ряженых!
Из маленькой двери вышла Елена, спрашивая:
— Что случилось?
За нею, подпрыгивая, точно резиновый мяч, выкатился кругленький человечек с румяным лицом и веселыми глазами счастливого.
Кутузов махнул рукой и пошел к дверям под аркой в толстой стене, за ним двинулось еще несколько человек, а крики возрастали, становясь горячее, обиженней, и все чаще, настойчивее пробивался сквозь шум знакомо звонкий голосок Тагильского.
Самгин тоже чувствовал себя задетым и даже угнетенным речью Кутузова. Особенно угнетало сознание, что он не решился бы спорить с Кутузовым. Этот человек едва ли поймет непримиримость Фауста с дон-Кихотом.
— Большевик. Большевики — не демократы, нет! Елена, прищурив глаза, посмотрела на потолок, на людей и спросила:
— Похоже на пирог с грибами — правда? Самгин, молча улыбаясь женщине, прислушивался к раздражающему голосу Тагильского:
— Оценки всех явлений жизни исходят от интеллигенции, и высокая оценка ее собственной роли, ее общественных заслуг принадлежит ей же. Но мы, интеллигенты, знаем, что человек стесняется плохо говорить о самом себе.
Вспыхнули сердитые восклицания:
— Неправда!
— Толстовщина!
— Демагогия какая-то!
Но голос Тагильского трудно было заглушить, он впивался в шум, как свист.
— Пожалуйста, не беспокойтесь! Я не намерен умалять чьих-либо заслуг, а собственных еще не имею. Я хочу сказать только то, что скажу: в первом поколении интеллигент являет собой нечто весьма неопределенное, текучее, неустойчивое в сравнении с мужиком, рабочим...
— Какое оригинальное открытие!
— Не тратьте иронию зря, у нас ее мало, — продолжал Тагильский, заставляя слушать его. — Я знаю: у нас — как во Франции — есть достаточное количество потомственных интеллигентов. Их деды — попы, мелкие торговцы, трактирщики, подрядчики, вообще — городское мещанство, но их отцы ходили в народ, судились по делу 193-х, сотнями сидели в тюрьмах, ссылались в Сибирь, их детей мы можем отметить среди эсеров, меньшевиков, но, разумеется, гораздо больше среди интеллигенции служилой, то есть так или иначе укрепляющей структуру государства, все еще самодержавного, которое в будущем году намерено праздновать трехсотлетие своего бытия.
— Короче! — приказал кто-то, а Тагильский спросил:
— Это приказание относится ко мне или к самодержавию?
Человека три засмеялось.
Кругленький Лаптев-Покатилов, стоя за спиной Елены и покуривая очень душистую папиросу, вынул <���из> зубов янтарный мундштук и, наклонясь к плечу женщины, вполголоса сказал:
— Странно будет, если меня завтра не вызовут в жандармское управление.
— А вы не балуйте, папашка, — ответила Елена. — Я и подумать не могла, что у вас сегодня эдакое. Тагильский, не видимый Самгину, продолжал:
— Бородатый человек, которому здесь не дали говорить, — новый тип русского интеллигента...
— Были, были у нас такие!
— Не встречал. Большевизм имеет свои оригинальные черты.
— Какие? Интересно знать.
— Читайте «Правду», — посоветовал Тагильский. Тут сразу заговорили десятка два людей, Самгин выделил истерическое восклицание Алябьева:
— Совет невежды! В тот век, когда Бергсон начинает новую эру в истории философии...
— Митя сердится, — сказала Елена, усмехаясь, Лаптеву. Он тоже усмехнулся:
— Митя чувствует демос личным своим врагом. Мы, старые дворяне, гораздо более терпимы, чем современная молодежь...
Где-то близко жаловался Ногайцев:
— Что же это? Не хватает своего ума — немецко-еврейским жить решили? Боже мой...
Читать дальше