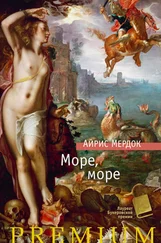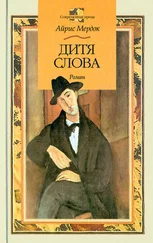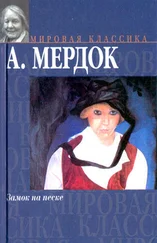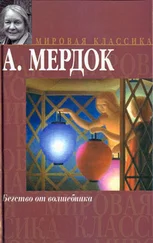Нельзя сказать, чтобы моя мать строго судила тетю Эстеллу или очень уж не одобряла ее поведения, хотя от спиртного и шума ее всю передергивало; и не то чтобы она завидовала: ведь ей не нужны были те мирские блага, что составляли усладу тети Эстеллы. Нет, самое ее существование глубоко удручало мою мать, а ее посещения, как я уже упоминал, вызывали мрачную раздражительность. Возможно, дядя и тетя считали, что меня воспитывают слишком строго. Глядя со стороны и видя запреты, но не видя любви, эти запреты диктующей, люди склонны слишком поспешно зачислять других людей в разряд «узников». Я вполне допускаю, что умный дядя Авель и эмансипированная тетя Эстелла жалели моего отца и меня и осуждали мою мать за то, что считали с ее стороны деспотизмом. Если мать догадывалась о таком их отношении, ей, конечно, это было обидно; и возможно даже, что эта обида толкала ее на то, чтобы быть с нами еще строже. Возможно и то, что, прозревая мои ребяческие фантазии об Америке, которую в моих глазах воплощала собой тетя Эстелла, она ревновала. Много позже я спросил себя, уж не воображала ли она, что мой отец был неравнодушен к своей неугомонной невестке? Но нет, я уверен, что он не питал к тете Эстелле никаких глубоких чувств, и мать это знала. (До чего эгоистично все это звучит, точно вся жизнь родителей только вокруг меня и вертелась. Но ведь так оно и было.) Со временем я перестал предвкушать посещения тети Эстеллы (хотя радовался им по-прежнему), потому что они так удручали и сердили мою мать. Эти визиты всегда наносили нашему дому какой-то ущерб, от которого он не сразу мог оправиться. Мы выходили проводить их на крыльцо, и когда «роллс-ройс» наконец скрывался из виду мать сжимала губы, отвечала односложно, а мы с отцом на цыпочках и старались не встречаться глазами.
В школе мне было хорошо, но там не было ни закадычных дружб, ни волнующих происшествий, не было и горячо любимых учителей, хотя некоторые из них, например тот же мистер Макдауэл, имели на меня влияние. Дядя и тетя маячили как огромные романтические образы как точки приложения смутных чувств на фоне в общем-то до странности пустого детства. Но они оставались далекими, словно в дымке, словно в тумане, – отчасти, конечно, потому, что мною интересовались только между прочим. Я никогда не чувствовал, что они по-настоящему меня видят или хотя бы пытаются разглядеть. С Джеймсом все было иначе. С самых ранних лет мы с ним без слов, но постоянно, остро и подозрительно ощущали существование друг друга. Мы наблюдали друг за другом, инстинктивно скрывая это взаимное внимание от родителей. Не могу сказать, что мы боялись друг друга: боялся я, и не столько Джеймса, сколько чего-то, что стояло за ним. (То было, надо полагать, мое еще неясное представление о собственной жизни как неудаче, как полном провале.) Но наши отношения были словно окутаны облаком неуюта и тревоги. И все это, конечно, без звука: мы никогда не говорили об этой скованности, нас разделявшей; возможно, мы бы и не нашли для этого слов. И едва ли наши родители об этом догадывались. Даже мой отец, знавший, что я завидую Джеймсу, об этом и понятия не имел.
Повторяю, я не чувствовал себя с Джеймсом свободно отчасти из страха, что он преуспеет в жизни, а я нет. Это, вдобавок к лошадям, было бы уже слишком. Невозможно сказать, в какой мере моя «воля к власти» была порождена глубоко скрытым давнишним желанием в чем-то превзойти Джеймса и поразить его воображение. Не думаю, чтобы Джеймс тоже стремился меня превзойти, а может быть, он знал, что ему для этого и стараться не нужно. Все преимущества были на его стороне. Он получил куда лучшее образование (о чем я не мог думать без скрежета зубовного). Я ходил в местную классическую школу (добропорядочную и скучную, ныне уже не существующую), Джеймса отдали в Винчестер. (Впрочем, там были свои недостатки. В него они въелись прочно. Говорят, мало кому удается от них избавиться.) Я сам себе дал вполне приличное образование, а главное – я приобщился к Шекспиру. Но Джеймс, как мне тогда казалось,учился решительно всему. Он знал латынь, греческий и несколько новых языков. Я немного знал французский, еще меньше – латынь. Он много знал о живописи, регулярно посещал музеи Европы и Америки. Он мог порассказать о разных странах. Он был среди первых по математике, получал призы по истории. Он писал стихи, и их печатали в школьном журнале. Он блистал; и хотя вовсе не был хвастлив, я, когда бывал с ним, все острее ощущал себя провинциалом и варваром. Я чувствовал, что пропасть между нами ширится, и из этой пропасти, в которую я все пристальней всматривался, на меня глядело отчаяние. Было ясно, что моему кузену написан на роду успех, а мне – поражение. Интересно, насколько все это понимал мой отец?
Читать дальше