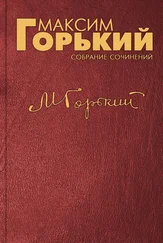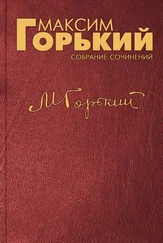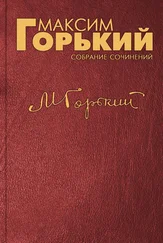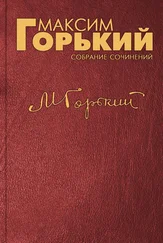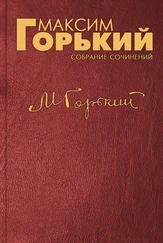Через несколько минут, заслышав впереди себя какой-то глухой шум, он снова метнулся через забор, благополучно прошёл по двору, дошёл до отворенной калитки в сад и вскоре, без приключений миновав ещё несколько заборов и дворов, шёл по улице, параллельной той, на которой стоял кабак Ионы Петровича.
Идя, Семага думал о том, куда бы ему отправиться, но не мог ничего придумать.
Все надёжные места в эту ночь, когда чёрт дернул полицию делать обход, являлись уже ненадёжными, а провести ночь на улице в такую пургу, с риском попасть в лапы обхода или ночного сторожа, – это не могло улыбаться Семаге.
Он шёл медленно и, сощурив глаза, смотрел вперёд себя в белую муть вьюжной ночи – из неё навстречу ему выползали молчаливые дома, тумбы, фонарные столбы, деревья, и всё это было облеплено мягкими комьями снега.
Странный звук раздался в шуме вьюги – точно будто тихий плач ребёнка где-то впереди.
Семага остановился и, вытянув шею вперёд, стал похож на хищного зверя, насторожившегося в предчувствии опасности.
Звуки замерли.
Семага качнул головой и снова начал шагать, глубже нахлобучив шапку и вобрав голову в плечи, чтобы меньше снега нападало за воротник.
У самых ног его что-то запищало. Он вздрогнул, остановился, наклонился, пошарил руками на земле и выпрямился, отряхая что-то, завязанное в узел, от снега, засыпавшего эту находку.
– Вот так фунт! Ребёнок… Ах ты, сделай милость! – в недоумении прошептал он, поднося находку к своему носу.
Находка была тёплая, шевелилась и была вся мокрёхонька от растаявшего на ней снега.
Рожица у неё была намного меньше Семагиного кулака, красная, сморщенная, глаза закрыты, а маленький рот всё открывался и чмокал. С мокрых тряпок на лицо и в этот беззубый ротишко текла вода.
Семага совершенно отупел от недоумения, но, чтоб избавить ребёнка от неприятной необходимости глотать снежную воду, – догадался, что нужно оправить тряпки, и для этого перекувыркнул ребёнка вниз головой.
Тому это, должно быть, показалось неудобным, и он жалобно запищал.
– Нишкни! – сказал Семага сурово. – Нишкни! А то и те задам. Я чего вот с тобой сделаю?
А? Куда мне тебя нужно? А ты ревёшь? Ишь ты, дурачина.
Но на находку Семаги нисколько не подействовала его речь – ребёнок всё пищал и так жалобно, так тихо, что Семаге сделалось неловко.
– Это, брат, как хошь! Я понимаю, что тебе мокро и холодно… и что ты мал ребёнок. Но, одначе, куда ж я тебя дену?
Ребёнок всё пищал.
– Совсем даже мне некуда тебя девать, – решительно сказал Семага, закутал свою находку плотнее в тряпки и, наклонившись, положил её на снег.
– Так-то вот. А то куда ж я тебя дену? Я, брат, и сам вроде как подкидыш в моей жизни.
Прощай, значит… Больше никаких!
И, махнув рукой, Семага пошёл прочь от ребёнка, ворча про себя:
– Кабы не обход, мог бы я тебя куда ни то сунуть. А то вон – обход. Что я тут могу сделать? Ничего, брат, не могу. Прости, пожалуйста. Невинная ты душа, а мать твоя – шкурёха.
Кабы мне её узнать, я бы ей рёбра обломал и все печёнки отбил. Чувствуй и понимай, да вдругорядь не дури. Знай край, да не падай. Эх ты, дьяволица треклятая, проклятая душа, ни дна бы тебе, ни покрышки, чтоб тебя земля не приняла, анафемскую дочь, чтоб тебя тоска-сухотка измаяла! А! Родишь? Бросаешь под забор? А за косы хочешь? Да я тебя… свинья ты! Должна ты понимать, что в такую пургу да мокроть нельзя ребят по улицам швырять, потому они слабые, как в рот снегу нанесёт – они и задохнутся. Ду-ура, выбери сухую ночь и бросай своё дитя. В сухую ночь и проживёт оно дольше и, главная вещь, увидят его люди. А разве в такую ночь люди ходят по улицам?.. Э-эх ты!
Когда именно, в каком месте своей реплики Семага воротился к находке и снова взял её на руки, он этого не заметил в увлечении своим негодованием по адресу матери подкидыша. Он сунул его себе за пазуху и, снова на все корки отчитывая мать, двинулся вперёд, охваченный чем-то тоскливым, смятённый и от жалости к ребёнку, уже и сам жалкий, как ребёнок.
Находка слабо возилась и глухо пищала, придавленная тяжёлым драпом пальто и могучей рукой Семаги. А под пальто у Семаги была только одна рваная рубаха – отчего скоро Семагина грудь почувствовала живую теплоту маленького ребячьего тельца.
– Ах ты, живой! – ворчал Семага, идя сквозь снег куда-то вперёд по улице. – Нехорошо твоё дело, братец мой! Потому куда мне тебя? Вот оно что! А мать твоя… ты не возись, лежи!
Вывалишься.
Но он возился, и Семага чувствовал, как сквозь дыру в рубахе тёплое личико ребёнка трётся о его, Семагину, грудь.
Читать дальше