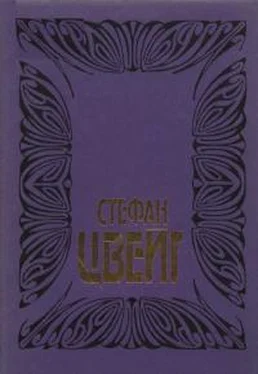— Нет, нет… не было никакой причины. Мама была очень добра со мной, но я был непослушен, я плохо себя вел… и вот… вот я убежал, потому что… я боялся.
Отец посмотрел на него изумленно. Менее всего он ожидал такого признания. Его гнев был обезоружен.
— Ну, хорошо, если ты сам сожалеешь… Не будем сегодня говорить об этом. Надо думать, что это больше не повторится.
Он остановился и взглянул на него. Голос его стал мягче.
— Как ты бледен! Но мне кажется, ты снова вырос. Я надеюсь, что ты больше нс будешь делать таких глупостей; ты, в самом деле, уже не ребенок и мог бы быть благоразумнее.
Эдгар все время смотрел на мать. Что-то блестело в ее глазах. Или это просто отблеск пламени? Нет, в самом деле, что-то блестит, влажное и светлое; на ее губах играет благодарная улыбка. Его послали спать, но это его не огорчило: ему хотелось остаться одному. У него было о чем подумать: столько сложных и богатых впечатлений! Все горе последних дней забылось под наплывом властного чувства первого переживания. Он чувствовал себя счастливым в таинственном предчувствии будущих событий. На дворе, среди темной ночи, шелестели во мраке деревья, но он уже не боялся. С тех пор как он познал, как богата жизнь, он уже утратил нетерпение. Ему казалось, что сегодня он впервые увидел жизнь, не прикрытую тысячью детских обманов, во всей ее наготе, во всей ее сладострастной опасной красоте. Он никогда не думал, что день может быть так насыщен сменами горя и радости, и был счастлив от мысли, что предстоит еще много таких дней, что впереди целая жизнь, которая раскроет ему свои тайны. Сегодня ему был дан первый намек на многообразие жизни, в первый раз, казалось ему, он понял человеческую природу, понял, что люди нуждаются друг в друге — даже тогда, когда кажутся врагами, — и что сладко быть любимым ими. Он не был способен думать о чем-нибудь или о ком-нибудь с ненавистью; он ни о чем не жалел, и даже для барона, для этого соблазнителя, злейшего своего врага, он нашел новое чувство благодарности: это он раскрыл ему дверь в этот мир первых переживаний.
Было так сладостно думать об этом в темноте; его мысли уже сливались с образами сновидений — это был почти сон. И ему показалось, будто раскрылась дверь и кто-то тихо вошел. Он думал, что эго уже во сне, и не мог открыть глаз. Он почувствовал чье-то дыхание, прикосновение другого лица, теплого и нежного, и знал, что это была его мать. Она целовала его и ласково гладила его голову. Он чувствовал ее поцелуи и ее слезы; отвечая на ласку, он принимал ее как знак примирения и благодарности за его молчание. Только позже, много лет спустя, он понял, что эти немые слезы были обетом стареющей женщины принадлежать с этих пор только ему, только своему ребенку; понял, что это был отказ от смелых надежд, прощанье с личными желаниями. Он не знал, что она ему была благодарна за то, что он спас ее от бесплодного приключения; не знал, что вместе с этой лаской она передала ему в наследство на всю его будущую жизнь горькое и сладостное бремя любви. Всего этого ребенок не понял тогда, но он чувствовал, что нет большего блаженства, чем быть любимым, что этой любовью он уже связан с великой тайной мира.
Когда она уже отняла свою руку, свои губы и тихо вышла, на его губах еще оставалось ощущение теплоты ее дыхания. И родилось сладостное желание чаще прижиматься к таким мягким губам и испытывать такое нежное объятие. Но это вещее предвкушение все той же мучительной тайны было уже затуманено сном. Еще раз пронеслись в его воображении пестрые картины последних часов, еще раз заманчиво раскрылась перед ним книга юности. Потом он заснул. Так начался для него более глубокий сон — сон его жизни.
Август прошлого лета я провел в Каденаббии, одном из маленьких местечек на берегу озера Комо, которые так очаровательно скрываются между белыми виллами и темным лесом. Тихий даже в более оживленные весенние дни, когда на узком пляже толпятся туристы из Белладжио и Менаджио, в эти теплые недели городок представлял благоухающую пустыню, залитую солнцем. Гостиница была почти необитаема: несколько случайных гостей, возбуждавших друг в друге взаимное недоумение выбором такого глухого местечка для летнего отдыха, каждое утро сами удивлялись своей стойкости. Больше всего изумляла меня стойкость одного пожилого господина, очень представительной и элегантной наружности, который, по внешнему виду, представлял собою нечто среднее между корректным английским парламентарием и парижским фланером. Он не предавался ни одному из видов водного спорта и проводил целые дни, задумчиво следя за дымом своей папиросы или перелистывая книгу. Тягостное одиночество двух дождливых дней и его приветливость быстро сообщили нашему знакомству сердечность, которая почти совершенно стерла разницу в возрасте. Лифляндец по рождению, получивший воспитание во Франции, а затем в Англии, без профессии, без постоянного места жительства, он был человеком, лишенным родины, в благородном смысле этого слова, и принадлежал к числу викингов, пиратов красоты, которые разбойничьими налетами присваивают себе драгоценности всех городов. Как дилетант, он стоял близко ко всем искусствам, но сильнее любви к ним было аристократическое презрение, которое он проявлял в служении им: он был обязан им лучшими часами своей жизни, но не посвятил им ни одного часа творческих мук. Его жизнь была одной из тех, которые кажутся лишними, потому что не скованы цепями общественности: все их богатство, накопленное тысячами драгоценных переживаний, исчезает, не оставляя следа, с их последним вздохом.
Читать дальше