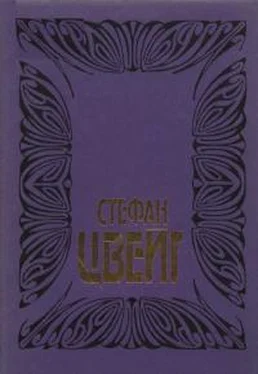Но он был достаточно умен, и неожиданность и необычайность этой новой дружбы не могли не угнетать его. Особенно смущало его чувство своей недостойности и ничтожности.
«Достоин ли я его, — я, двенадцатилетний мальчик, который должен ходить в школу, которого раньше всех посылают спать? — задавал он себе мучительные вопросы. — Чем я могу быть для него, что я могу ему дать?» Это мучительное сознание бессилия выразить свое чувство делало его несчастным. Обычно, полюбив кого-нибудь из товарищей, он, прежде всего, делил с ним драгоценности своего письменного стола — камни или марки — свои детские богатства; но все эти вещи, еще вчера представлявшие для него чрезвычайную ценность, теперь сразу показались ему ничтожными, ненужными и достойными презрения. Могли он предложить их своему новому другу, к которому он даже не смел обратиться на «ты»? Есть ли путь, есть ли возможность выразить ему свои чувства? Он все больше мучился от сознания своей незрелости; сознания, что он еще не настоящий человек, а только двенадцатилетний ребенок. Никогда он не проклинал так бурно свой детский возраст, никогда не испытывал такой жажды проснуться иным, каким он видел себя во сне: большим и сильным, мужчиной, взрослым, как все.
Эти тревожные мысли переплетались с первыми яркими снами о новом мире мужчины. Эдгар наконец заснул с улыбкой на устах; но мысль о завтрашней встрече прерывала его сон. Он вскочил уже в семь часов, боясь опоздать. Поспешно оделся, поздоровался с удивленной матерью, которая обычно не могла поднять его с постели, и, не отвечая на ее вопросы, побежал вниз. До десяти часов он нетерпеливо бродил, забыв о завтраке, занятый одной мыслью — не заставить ждать своего друга.
В половине десятого барон, наконец, спустился не торопясь. Он, конечно, давно забыл о данном обещании, но теперь, когда мальчик так стремительно бросился к нему, он улыбнулся избытку его страстности и выразил готовность сдержать свое слово. Он снова взял мальчика под руку, прошелся с ним, сияющим от счастья, взад и вперед, однако отказался — мягко, но решительно — предпринять сейчас же совместную прогулку. Он как будто чего-то ждал, судя по взглядам, которые он нервно бросал на входную дверь. Вдруг он насторожился. Мать Эдгара вошла и, отвечая на поклон, с приветливым видом направилась к ним. Она одобрительно улыбнулась, услышав о предполагаемой прогулке, о которой Эдгар не рассказал ей, как о чем-то слишком интимном, и сразу согласилась на приглашение барона принять в ней участие. Эдгар нахмурился и кусал губы. Как досадно, что она должна была войти как раз в эту минуту! Эта прогулка всецело принадлежала ему: если он и представил своего друга маме, то это была лишь любезность с его стороны, а уступать его он не намерен. Видя внимание барона к его матери, он испытывал уже нечто вроде ревности.
Они отправились на прогулку втроем, и чрезвычайный интерес, который оба взрослых спутника проявляли к ребенку, поддерживал в нем опасное сознание собственной ценности и внезапной важности. Эдгар был почти исключительным предметом их беседы: мать с несколько преувеличенной озабоченностью говорила о его бледности и нервности, а барон, со своей стороны, возражал ей, улыбаясь, и рассыпался в похвалах своему «другу», как он его называл. Это был лучший час в жизни Эдгара. Ему предоставлялись права, которыми он никогда не пользовался в детстве. Он мог принимать участие в разговоре, не получая за это замечаний, и даже выражать смелые пожелания, о которых он до сих пор не позволил бы себе заикнуться. Неудивительно, если в нем с каждой минутой разрасталось обманчивое чувство, что он уже взрослый. Детство в его радужных мечтах оставалось уже позади, как сброшенное платье, из которого он вырос.
За обедом, следуя приглашению все более и более любезной матери Эдгара, барон сидел за их столом. Визави обратился в соседа, знакомый — в друга. Трио было налажено, и три голоса — женский, мужской и детский — звучали в полной гармонии.
Нетерпеливому охотнику уже казалось, что настало время подкрасться к дичи. Семейственное тройственное созвучие в этом деле перестало ему нравиться. Болтать втроем было довольно приятно, но, в конце концов, не болтовня же была его целью. Он знал, что салонный тон с неизбежной маскировкой желаний всегда задерживает эротическую игру между мужчиной и женщиной, лишает слова горячности н натиск — пламенности. Она не должна была за беседой забывать о его истинных намерениях, которые — он знал это наверняка — были ею поняты.
Читать дальше