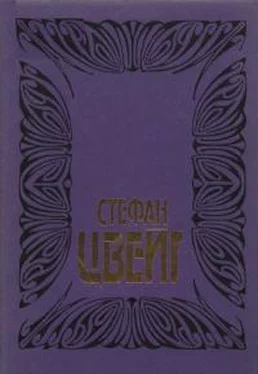Я посмотрел на его жену и дочь; они стояли близко друг к другу, и Агкий трепет передавался от одной к другой, точно они представляли одно целое, содрогавшееся от общего потрясения. Я ощутил всю торжественность момента: ничего не подозревающий человек трогательно передавал в мое распоряжение, как некую драгоценность, свою незримую, давно погибшую коллекцию. Потрясенный, я обещал ему то, чего исполнить не мог. И снова луч света озарил мертвые зрачки; я почувствовал, как стремится он ощутить мое тело; я ясно почувствовал это, когда, в знак благодарности и торжественности своего обета, он, завладев моими пальцами, нежно пожал их.
Женщины проводили меня до дверей. Они не решались заговорить, так как обостренным своим слухом слепой уловил бы каждое слово; но какой благодарностью засияли их полные горячих слез глаза! Ошеломленный, я спустился по лестнице. Мне было стыдно: как сказочный ангел, вступил я в жилище бедняков, сделал слепого зрячим на час и, став участником священного обмана, лгал бесстыдно — жадный торговец, пришедший в действительности, чтобы хитростью добыть несколько драгоценностей. Но то, что я унес с собой, было более ценно: мне дано было в наше тусклое, безотрадное время живо ощутить то чистое восхищение, тот озаренный духом восторг преклонения перед искусством, которые, казалось, окончательно забыты нашими современниками. И меня охватило — не нахожу другого слова — нечто вроде благоговения, вопреки непонятному чувству стыда, продолжавшему жить во мне.
Я был уже на улице, когда раздался звон открываемого окна; кто-то позвал меня: старик не удержался; он обратил свои слепые взоры в ту сторону, куда, как предполагал он, я должен был пойти. Он так перегнулся, что женщины заботливо стали отстранять его; он махал платком и кричал юношески весело и бодро: «Счастливого пути!» Не могу забыть этой картины: озаренное радостью лицо седого старца в окне вверху, над ворчливой, загнанной, суетливой уличной толпой, лицо, в светлом облаке благостного самообмана вознесенное над отвратительной нашей действительностью. И я снова вспомнил старую истину, высказанную, кажется, Гете: «Коллекционе-. ры — счастливые люди».
Пьеру Жуву с братской дружбой
Погруженная в крепкий сон, жена дышала ровно и отчетливо. Казалось, легкая улыбка или слово вот-вот слетят с ее полуоткрытых уст. Спокойно вздымалась под покрывалом молодая полная грудь. В окна пробивалась заря. Но скуден был свет зимнего утра. Полумрак неустойчиво витал над сонными предметами, скрывая их очертания.
Фердинанд тихо поднялся; зачем — он сам не знал. Это теперь с ним часто случалось: бросая работу, он вдруг хватал шляпу и поспешно уходил из дому, в поля, бежал все быстрее и быстрее, пока где-нибудь в незнакомом месте не останавливался, усталый, с дрожащими коленями и бешено стучащей в висках кровью. Или среди оживленного разговора внезапно умолкал, — не понимая смысла слов, не отвечая на вопросы, — с трудом сбрасывал с себя оцепенение. Или вечером, раздеваясь, забывался и сидел на краю постели, с крепко зажатым в руке ботинком, пока оклик жены или шум упавшего ботинка не заставляли его очнуться.
Его охватила дрожь, когда из овеянной теплом комнаты он вышел на балкон. Невольно он прижал локти к телу. Расстилавшийся внизу широкий пейзаж был еще окутан туманом. Цюрихское озеро, казавшееся обычно — из его стоявшего на возвышенности домика — сверкающим зеркалом, отражавшим каждое скользящее по небу облачко, было покрыто еще густой молочной пеленой. Куда ни падал взор, к чему ни прикасались руки — все было сыро, мрачно, скользко, серо;
вода капала с деревьев, и влага сочилась по сваям. Пробуждавшийся мир походил на человека, только что выбравшегося из воды и стряхивающего ее брызги. Человеческие голоса доносились сквозь густой туман сдавленно и глухо, как предсмертный хрип утопающего; изредка слышались удары молота и далекий благовест, но чистый обычно звук был неясен и ржав. Мрак и сырость повисли между ним и миром.
Его знобило. Но он продолжал стоять, глубже засунув руки в карманы, ожидая, пока прояснится горизонт. Словно занавес из серой бумаги, медленно, снизу, стал сворачиваться туман. Его охватило невыразимое желание снова увидеть любимый ландшафт, неподвижно расстилавшийся внизу и подернутый сейчас утренней дымкой. Чистые очертания пейзажа сиянием своим всегда умиротворяли его душу. Как-часто радостная даль горизонта успокаивала его тревогу; домики на том берегу, приветливо лепившиеся один к другому, пароход, грациозно прорезающий голубые волны, чайки, весело перелетающие с берега на берег, дым, серебристыми спиралями поднимающийся из красной трубы навстречу полуденному звону, — все так уверенно повторяло ему: «Мир! Мир», — что, как ни реально было безумие вселенной, он верил прекрасным этим знамениям и минутами забывал о своей настоящей родине, любуясь этой — вновь обретенной.
Читать дальше