Подобные повороты могут происходить почти незаметно. Это ближе к химическому нежели к физическому процессу, он состоит в демифологизации: утопии частью достигнуты, частью оставлены позади и потому утрачивают свое обаяние. Мир труда предстает в другой перспективе, подчиняется субординации. Рабочий отодвигается на второстепенное место иерархии, ставится в рамки его материалистической схемы, ему отводится роль обслуживающего брата, в то время как новые духовные вожди уже заняты новыми идеями. Этому способствует стремление к усовершенствованию, которое лишает средства их революционного характера. Первый голод уже утолен. Гигантский улей наполняется ячейками, которые требуют уже иной пищи, а с приходом внуков туда проникают новые паразиты.
Меняются роль и задачи скепсиса. Он подталкивает ход диалектических процессов в их героической фазе и тормозит их после ее завершения под личиной taedium vitae(Отвращение к жизни, пресыщенность (лат.).) — явления, распространяющегося в мирное время золотого века. Сначала скепсис ухватывается за модификации генерального плана, оставаясь на его ковре, в рамках господствующих банальностей. Смертельные враги даже не подозревают, до чего сходны их язык, их символика. Они схожи между собой как зеркальные отражения, как поддерживающие друг друга арки. Непримиримость возрастает вместе с тонкостью расхождений, как это было на великих церковных соборах, где спор шел о богоравенстве или богоподобии.
Затем скепсис начинает подвергать план тотальному сомнению, доходя до глубочайшего нигилизма. Он тоже входит в поставленную задачу. И наконец совершается переворот: сомнение оборачивается верой, прикрепившись к блеснувшим над горизонтом новым образам. Но что именно придет «извне», не поддается предсказанию.
Это движение происходит волнами. В определенный момент план достигает своей кульминации, причем в духовном аспекте раньше, чем в реальном; силовая и пространственная экспансия, энергичное движение масс значительно запаздывают по сравнению с первоначальным толчком. Это можно наблюдать повсеместно в мире зоологии, истории, теологии.
Не противоречит этому и то, что движение одновременно происходит по спирали; критика; наблюдатель видит его с другой позиции, чем действующий участник, и в результате истолковывает его иначе. Всякая сила, приближающаяся к своему закату, несет в себе зарю новой, реализует ее в момент своей гибели как матрицу, как питательную среду. В этом смысле конец всегда эпизодичен, он даже необходим, так как освобождает пространство. Мир тесен, и история пишется не в виде книги, а на одном листе, на котором просвечивают прежние тексты, вплоть до самого первого. В абсолюте существует только массивная субстанция, которая дает излучение во времени, там нет ни закатов, ни восходов, как у солнца, которое не заходит и не восходит. Есть только превращения, смерти нет.
Вероятно, метафизический потенциал мира труда сильнее, чем нам это представляется сегодня. Мы видим гусеницу, неподвижную куколку, а не бабочку. Мы видим движение, но не видим покоя, который управляет его законами. На высших витках спирали откроется скрытая необходимость. Жертвы были сильнее, непреоборимее, чем думали те, кто жертвовал собой: они были так сильны, как они верили и мечтали. Физические формулы, социальные и экономические теории, обнаруживая свою сущность, оказываются средствами, мотивами для одухотворения мира. Временные постройки сносятся; на сцену выходят санкционирующие силы. Искусство, архитектура, философемы могут обрести новую достоверность лишь тогда, когда осознается неподвижный центр покоя; их неудовлетворительность в условиях движения принадлежит к числу благоприятных примет.
К числу примет относятся также и настроения близкого конца. Они нарастают по мере развития кризиса и достигают апокалиптических масштабов во время мировых кризисов. «Подобное повторяется в каждое тысячелетие», — сказал мне однажды в Норвегии Кельзус. [68] Намек на Кельзуса — древнегреческого энциклопедиста (25 г. до н. э. — 50 г.). Юнгер так называл Хуго Фишера, с которым он и был два месяца в Норвегии в 1935 г. С Фишером Юнгер познакомился в Лейпцигском университете, где изучал зоологию и заодно вместе Фишером посещал лекции по философии у Феликса Кремера. Сам Хуго Фишер (1897–1975) стал впоследствии доцентом на кафедре философии. Все биографы Юнгера признают, что Фишер здорово повлиял на Юнгера в философском отношении. Кроме того, Celsus (с женой) — это персонаж книги писем Юнгера из Норвегии «Myrdun» (впервые издана в Норвегии в 1943 г. для немецких солдат в этой скандинавской стране).
Для стиля нашего времени характерно, что эти настроения конца ограничены тем, что связано с техникой. Однако она лишь иллюзорный предлог; техника не несет нам ни погибели, ни спасительного блага. Тут действуют причины посильнее. О подъеме и упадке нельзя судить с эмпирической точки зрения. Здесь спорят между собой поверхностный оптимизм и всесильный страх.
Читать дальше
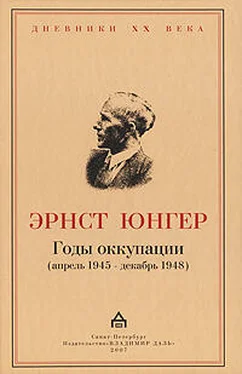
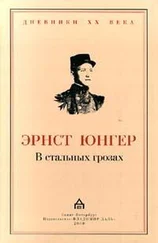
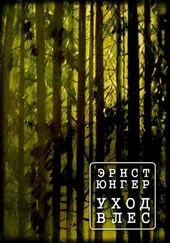

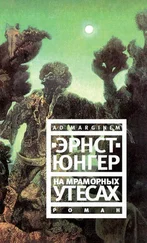
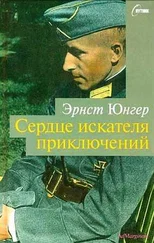


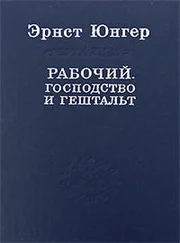

![Эрнст Юнгер - Стеклянные пчелы [litres]](/books/410842/ernst-yunger-steklyannye-pchely-litres-thumb.webp)

