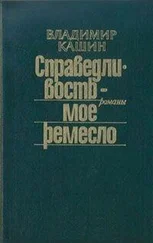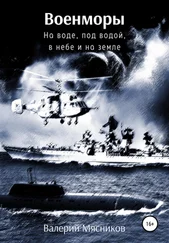Узкое лезвие золотого серпа окунулось одним концом в воду, и он медленно, плавно погрузился весь, до другого острия, столь тонкого, что я не заметил, как он исчез.
Тогда я взглянул на гостиницу. Освещенное окно только что закрылось. Гнетущая тоска сдавила мне грудь, и я спустился в свою каюту.
Как только я лег в постель, я понял, что мне не уснуть; я лежал на спине, с закрытыми глазами, нервы мои были натянуты, как струны, мысль работала неустанно. Кругом ни шороха, ни звука, лишь дыханье обоих матросов доносилось до меня сквозь тонкую перегородку.
Вдруг что-то скрипнуло. Что? Не знаю, должно быть, блок рангоута; но скрип был такой тихий, такой печальный и жалобный, что я вздрогнул всем телом; и опять тишина, бескрайняя тишина, объемлющая мир до самых звезд; ни дуновения, ни всплеска, ни колебания судна; но вот снова таинственное еле слышное стенанье словно зазубренным ножом резнуло меня по сердцу. Есть шорохи, звуки, голоса, которые ранят, которые в один миг наполняют душу болью, ужасом, смертной тоской. Я ждал, прислушиваясь, и снова до меня донесся этот протяжный звук, словно исторгнутый из моей груди, словно то была дрожь моих собственных нервов; или, вернее, этот звук отозвался во мне скорбным и горестным призывом. Да, то был голос жестокий, знакомый, которого я ждал со страхом и отчаянием. Тихий скрип в ночном безмолвии, — и на меня тотчас дохнуло ужасом и безумием, ибо в этом слабом звуке довольно силы, чтобы мгновенно пробудить нестерпимую боль, всегда дремлющую в душе всех живущих. Чей это голос? Это голос, который неумолчно звучит в нашем сердце, который укоряет нас непрерывно, неотступно, упорно, неотвязно, безжалостно, жестоко, непримиримо, укоряет нас во всем, что мы совершили, и во всем, чего не совершили; это голос совести, смутных сожалений о невозвратном, об ушедших днях, о случайно встреченных женщинах, которые, быть может, полюбили бы нас, о горьких утратах, о суетных радостях, несбывшихся надеждах; голос всего, что проходит, что уносится, обманывает, исчезает, всего, чего мы не достигли и не достигнем никогда; тоненький, ноющий голосок, сетующий на беспросветность жизни, на тщету усилий, на немощь духа и слабость плоти.
Вновь и вновь, нарушая угрюмое молчание ночи, он шептал мне в ухо, припоминая все, что я мог бы любить, все, к чему безотчетно тянулся, о чем грезил, мечтал, все, что жаждал увидеть, достигнуть, узнать, чем хотел насладиться, все, что напрасной надеждой манило мой бедный, ненасытный, немощный и бескрылый ум, все, к чему он безуспешно стремился, не в силах вырваться из оков незнания.
Да, я жаждал всего и ничем не насладился! Мне бы жизненную силу всего рода человеческого, разум, отпущенный всем существам земным, все таланты, все силы и тысячу жизней вместо одной, ибо все манит меня, все соблазняет мою мысль, и я обречен все созерцать, не владея ничем.
Почему жизнь для меня страдание, тогда как другие живут, не испытывая ничего, кроме удовольствия? Почему я осужден на эту непостижимую пытку? Почему мне не дано познать подлинную, не призрачную радость, надежду, счастье?
Потому, что я владею даром ясновидения, источником силы и мук писателя. Я пишу, ибо я понимаю мир и терзаюсь им, ибо я слишком хорошо его знаю, и еще потому, что, не имея доли в нем, я гляжу на его отражение во мне, в зеркале моей мысли.
Не завидуйте нам, — мы достойны жалости, ибо вот что отличает писателя от его ближних.
Для него не существует более безотчетных порывов. Все, что он видит, все его радости, развлечения, горести, муки тотчас же становятся предметом наблюдений. Он изучает неустанно, вопреки всему, вопреки себе, — чувства, лица, движения, звук голоса. Не успеет он увидеть, что бы он ни увидел, — он уже спрашивает: почему? Он не знает ни движения, ни возгласа, ни поцелуя, который не был бы ложью, не знает внезапных поступков, совершаемых людьми потому, что так нужно, не рассуждая, не задумываясь, не понимая, не отдавая себе отчета даже впоследствии.
Страдает ли он, — он отмечает свои страдания и по памяти разбирает их; он говорит себе, возвращаясь с кладбища, где похоронили того или ту, что любил больше всего на свете: «Странное это было чувство, какое-то горестное упоение и т. д.». И тут же он вспоминает все подробности, — поведение соседей, фальшивые жесты, фальшивые изъявления горя, фальшивое выражение лиц; вспоминает тысячу мелочей, подмеченных глазом художника: как крестилась старуха, ведя за руку ребенка, как из окна падал луч света, как собака затесалась в процессию, как погребальные дроги стояли под высокими тисами кладбища, как шагал факельщик, как морщились могильщики, вчетвером опуская тяжелый гроб в свежевырытую яму, — словом, тысячу подробностей, которых никогда бы не заметил обыкновенный человек, горюющий всем сердцем, всей душой, всем существом своим.
Читать дальше

![Уоллес Николс - Ближе к воде [Удивительные факты о том, как вода может изменить вашу жизнь]](/books/25971/uolles-nikols-blizhe-k-vode-udivitelnye-fakty-o-t-thumb.webp)