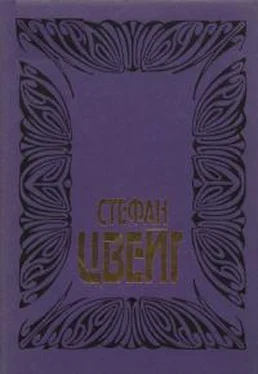Затем были перерыты всевозможные картотеки гестапо и все мои книги. Но и здесь нельзя было обнаружить ни одного обидного слова, сказанного мной против Германии (как и против какой-либо другой страны), или хотя бы следы высказываний на политические темы. Что бы они ни пытались предпринять — будь то отказ их на глазах у целого мира в праве поставить свою оперу корифею, которому они сами вручили знамя национал-социалистской музыки, или — день «национального позора»! — дозволение осквернить (в который уже раз) немецкие афиши именем Стефан Цвейг, на объявлении которого автором текста категорически настаивал Рихард Штраус, — ответственность неизменно ложилась на них одних. Как я втайне наслаждался их великими заботами и неразрешимой головоломкой; я предчувствовал, что и без моего вмешательства или, точнее, именно благодаря полному отсутствию с моей стороны со- или противодействия моя музыкальная комедия неудержимо вырастет в партийно-политический кошачий концерт.
До поры до времени нацисты уходили от решения. Но в начале 1934 года в конце концов все же пришлось выбирать: либо пойти против своего собственного закона, либо против величайшего музыканта эпохи. Дело не терпело дальнейшего отлагательства. Партитура, клавираусцуг, текст были давно отпечатаны, в «Гофтеатре» Дрездена были заказаны костюмы, роли распределены и даже разучены, а всевозможные инстанции: Геринг и Геббельс, имперская канцелярия и совет по культуре, министерство просвещения и гвардия цензоров — все еще не могли договориться. И хотя это кажется смешным, но история «Молчаливой женщины» превратилась в дело государственной важности. Ни одна из всех этих многочисленных инстанций не осмеливалась взять на себя всю полноту ответственности как за дозволение, так и за запрещение, и, стало быть, ничего иного не оставалось, как предоставить решать вопрос лично самому владыке Германии и вождю нацистской партии — Адольфу Гитлеру.
Еще до этого мои книги «удостоились чести» быть прочитанными нацистами, особенно «Фуше», которого они считали образцом политической благонадежности и перечитывали снова и снова. Но что после Геббельса и Геринга Адольф Гитлер должен будет самолично утруждать себя прочтением ех officio [174] По должности, по обязанности (лат.)
трех актов моего лирического либретто, этого я никак не ожидал. Решение далось ему нелегко. Как вскоре мне удалось выяснить всякими окольными путями, состоялся бесконечный ряд совещаний. Наконец Рихард Штраус предстал перед «всемогущим», и Гитлер сообщил ему in persona, что постановка, хотя она противоречит всем законам нового германского рейха, как исключение разрешается — обещание, очевидно, данное столь же неохотно и лицемерно, как подписание Пакта о ненападении с СССР.
И вот наступила премьера — день позора для нацистской Германии, когда имя Стефана Цвейга, объявленное вне закона, красовалось на всех афишах. На спектакле я, разумеется, не присутствовал, так как знал, что зрительный зал будет переполнен коричневыми формами, а на одно из представлений ожидают самого Гитлера. Опера имела очень большой успех, и я должен отметить к чести музыкальных критиков, что девять десятых из них с готовностью использовали хорошую возможность, чтобы еще раз — в последний раз — заявить о своем внутреннем неприятии расовой теории, высказав самые, какие только возможно, добрые слова о моем либретто. Все немецкие театры: в Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Мюнхене — тотчас объявили постановку оперы на следующий сезон.
Вдруг, после второго спектакля, с высоких небес грянул гром. Запрет был наложен разом на все, в одну ночь оперу запретили в Дрездене и по всей Германии. И более того, все с удивлением прочитали, что Рихард Штраус заявил о своем уходе с поста президента музыкальной академии. Каждый понимал, что произошло нечто чрезвычайное. Но минуло еще какое-то время, прежде чем я узнал всю правду. Оказывается, Штраус написал мне письмо, в котором убеждал меня безотлагательно приступить к либретто новой оперы и более чем откровенно выразил свое личное отношение ко всему происходящему. Это письмо попало в руки гестапо. Оно было предъявлено Штраусу, который тотчас после этого вынужден был подать в отставку, а опера была запрещена. Она увидела свет на немецком языке лишь в свободной Швейцарии и в Праге, позднее — на итальянском языке — в миланской «Ла Скала», по особому дозволению Муссолини, в то время еще не успевшего позаимствовать расистскую теорию. Однако немецкий народ был лишен возможности наслаждаться этой чарующей оперой своего величайшего музыканта современности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу