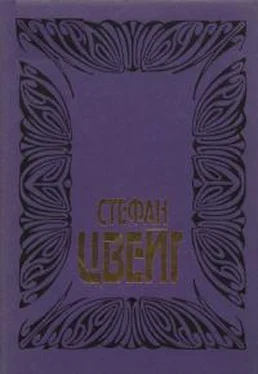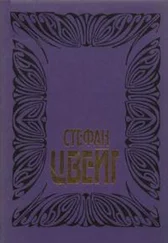За восемь лет средней школы в жизни каждого из нас произошло значительное событие: из десятилетних детей мы постепенно превратились в шестнадцатилетних, семнадцатилетних, восемнадцатилетних созревших юношей, и природа стала заявлять о своих правах. Это пробуждение представляется исключительно личной проблемой, которую каждый взрослеющий человек должен решать самостоятельно и которая на первый взгляд отнюдь не предназначена для публичного обсуждения. Но для нашего поколения тот кризис вышел за пределы своих границ. Он совпал одновременно с пробуждением в другом смысле, ибо научил нас впервые критически оценивать тот общественный строй, в котором мы выросли, и его устои. Дети и даже молодые люди в основном готовы вначале относиться с уважением к законам общества. Но они подчиняются их нормам лишь до тех пор, пока видят, что они неукоснительно соблюдаются и всеми другими. Одна лишь фальшивая нота у учителей или родителей неминуемо заставляет молодого человека с подозрением и, стало быть, более проницательно смотреть на все окружение. И нам понадобилось немногое, чтобы обнаружить, что все те авторитеты, в которые мы до сих пор верили, — школа, семья и общественная мораль — во всем, что относилось к сексуальности, вели себя до странного ханжески — и даже более того: что они и от нас требовали здесь скрытности и притворства.
Ибо об этих вещах тридцать — сорок лет тому назад думали иначе, чем в наши дни. Быть может, ни в какой области общественной жизни не произошло (по ряду причин: женская эмансипация, фрейдовский психоанализ, спорт и физическая культура, самостоятельность молодежи) в течение жизни лишь одного поколения таких коренных перемен, как в отношениях между полами. Когда пытаешься определить особенность буржуазной морали девятнадцатого столетия, которая, в сущности, была викторианской, и сравнить с сегодняшними, более свободными и более естественными, нравами, то ближе всего к истине было бы сказать, что та эпоха трусливо уходила от проблемы сексуальности из чувства неуверенности в себе.
Прежние, еще неподдельные религиозные времена, в частности строго пуританские, решали задачу проще. Преисполненные искренней убежденностью, что чувственное желание есть происки сатаны, а волнение плоти — распутство и грех, авторитеты средневековья лишь подступили к проблеме и строжайшими запретами (особенно в кальвинистской Женеве — под страхом смерти) утвердили свою жестокую мораль. Напротив, у нашей терпимой, давно уже не верующей в дьявола и вряд ли еще верующей в Бога эпохи недостало решимости на столь радикальную анафему, она воспринимала сексуальность как стихийное, а потому тревожное явление, которое невозможно было включить в нравственность и нельзя было признать при свете дня, потому что всякая форма свободной, внебрачной любви противоречила буржуазному «приличию». И вот для устранения этого противоречия та эпоха пошла на необычный компромисс. Она ограничила свою мораль тем, что хотя и не запрещала молодому человеку отправлять свою vita sexualis [117] Половую жизнь (лат.).
, но требовала, чтобы этим непристойным делом он занимался по мере возможности незаметно. Если уж сексуальность нельзя было устранить из мира природы, то она хотя бы не должна быть видимой в мире нравственности. Было, следовательно, заключено молчаливое соглашение не обсуждать этот досадный комплекс ни в школе, ни в семье, ни в обществе и подавлять все, что может напомнить о его наличии.
Школа и церковь, светское общество и правосудие, газета, книга, мораль упорно избегали всякого упоминания проблемы, и к ним постыдным образом примкнула даже наука, чьей непосредственной задачей должен был сразу стать непредвзятый подход ко всем проблемам этой naturalia sunt turpia [118] Сообразная с законами природы непристойность (лат.).
. Но и она капитулировала под предлогом, что подобные скабрезные темы науки недостойны. И сколько ни просматривай книг того времени, философских, юридических и даже медицинских, всюду видишь, как авторы, словно по сговору, со страхом уходят от всякого обсуждения. Когда ученые-правоведы на своих конгрессах обсуждали способы более гуманного отношения к заключенным и моральный ущерб, наносимый пребыванием в исправительных заведениях, они боязливо обходили эту проблему. И психиатры, хотя во многих случаях им было совершенно ясно происхождение некоторых истерических заболеваний, не решались сознаться в истинном положении вещей, и у Фрейда можно найти упоминание, что даже его почтенный учитель Шарко признался ему ненароком, что, хотя он и знает настоящую causa [119] Причина, основание (лат.).
, никогда, однако, публично не оглашал ее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу