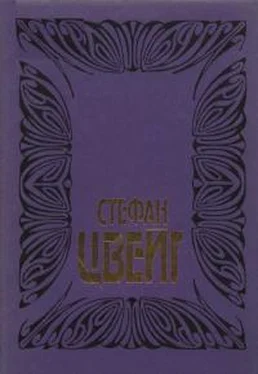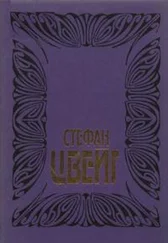И шестнадцатое столетие, как, впрочем, и наше время, хотя и чрезвычайно раздраженное различными жестокими идеологиями, знало такие свободные и неподкупные души. Читая письма гуманистов того времени, наш современник братски чувствует их глубокую печаль, вызванную господствующим в мире насилием, он разделяет с ними духовное отвращение к тупоумным изречениям догматиков, каждый из которых, подобно ярмарочному зазывале, торжественно объявляет: «То, чему учим мы, — истинно, а то, чему учат другие, — ложь». Ах, сколько ужасов сыплется на головы просвещенных космополитов со стороны бесчеловечных усовершенствователей человечества, вламывающихся в мир, который верит в прекрасное, и с пеной у рта провозглашающих свою жестокую ортодоксию, о, как тошнит… О, как тошнит, какие спазмы рвоты вызывают все эти Савонаролы, кальвины, джоны ноксы, желающие убить красоту и превратить землю в гигантскую семинарию моралистов!
С трагической прозорливостью мудрые и гуманные люди видят те несчастья, которые принесут Европе эти неистовствующие упрямцы, уже слышат они за пламенными словами бряцание оружия и предчувствуют в этой ненависти грядущую ужасную войну. Но даже зная правду, гуманисты не решаются бороться за нее.
В жизни почти всегда получается так, что знающие не бывают активными, активные — знающими. Трагически скорбящие туманисты пишут друг другу трогательные, очень литературные письма, они сетуют за закрытыми дверями своих рабочих кабинетов, но никто не выступает против антихриста. Время от времени Эразм решается из укрытия послать пару стрел в лжепророков; Рабле, накинув шутовской балахон, бичует их жестоким смехом; Монтень, этот благородный и мудрый философ, в своих эссе находит красноречивейшие слова, но серьезно вмешаться и предотвратить хотя бы один из этих гнусных актов гонения и казней не решается никто. С неистовыми, — решают эти многоумные и поэтому сверхосторожные мужи, — мудрые не должны спорить; лучше в такие времена укрыться в тени, чтобы не попасться самому, не пасть жертвой их безумия.
Кастеллио же — ив этом его непреходящая слава — единственный из этих гуманистов решительно выступает навстречу своей судьбе. Мужественно подняв свой голос за преследуемых товарищей по духу, он тем самым рискует жизнью. Абсолютно лишенный фанатизма, ежечасно подвергающийся угрозам со стороны фанатикоц, совершенно бесстрастный, с непоколебимостью Толстого поднимает он над жестоким временем, словно знамя, свое кредо: ни одному человеку нельзя навязывать мировоззрение, никакая земная власть не имеет права насиловать совесть человека, и так как свое кредо он сформулировал не на основе программы какого-нибудь лагеря — папистов или реформаторов, а основываясь на вечном духе гуманизма, именно поэтому его мысли, как и слава, остались навечно.
Сформулированные художником общегуманные, вечные идеи всегда оставляют свой отпечаток, всегда кредо, объединяющее мир, переживет кредо доктринерское и агрессивное. Но для всех последующих поколений останется беспримерным достойное подражания мужество этого забытого человека. Ибо, когда Кастеллио вопреки мнению всех богословов мира называет Сервета, сожженного Кальвином, невинной жертвой, когда он в ответ на все софизмы Кальвина бросает бессмертные слова: «Сжечь человека — не значит защитить учение, нет, это означает — убить человека», — когда он в своем манифесте терпимости (задолго до Локка, Юма, Вольтера и многих других мыслителей и гораздо решительнее, чем они) раз и навсегда провозглашает право свободомыслия, — это означает, что он за убеждения готов отдать свою жизнь.
Нет, протест Кастеллио против прикрытого юридической процедурой убийства Сервета не следует сравнивать с тысячекратно восхваляемыми протестами Вольтера по делу Кала-са и Золя — по делу Дрейфуса, — их действия по моральному благородству совсем не равнозначны его деянию. Ведь Вольтер, начавший борьбу за Кал аса, живет уже в век гуманизма; кроме того, писатель с мировой славой находится под защитой королей, князей; равным образом восхищение всей Европы, всего мира окружает Эмиля Золя. Совершая свои благородные поступки, оба они ради чужих судеб рисковали и своей репутацией, и своим комфортом, но — ив этом решающая разница — не своей жизнью. Как Себастьян Кастеллио, который в борьбе за гуманизм испытал на себе всю убийственную бесчеловечность своего века.
Себастьян Кастеллио очень дорого заплатил за свой моральный героизм. Этот первый убежденный противник насилия, считавший, что в борьбе следует пользоваться лишь духовным оружием, был неслыханно жестоко подавлен грубой силой — увы, вновь и вновь подтверждается истина, что борьба оказывается безнадежной каждый раз, когда против сплоченной организации выступает одиночка, опирающийся единственно лишь на моральное право человека. Если какой-либо доктрине удалось овладеть государственным аппаратом и всеми его институтами гнета, она не задумываясь вводит в действие террор; того, кто ставит ее всевластие под вопрос, она сумеет заставить замолчать, а иного — и дышать также.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу