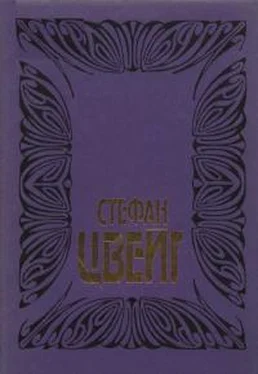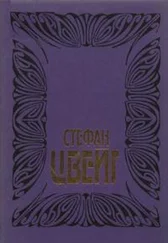Но истинно человечный человек не может остаться безучастным при виде бесчеловечных поступков. Рука честного писателя, если душа его потрясена безумием времени, в котором он живет, не может равнодушно писать трезвые, высокопринципиальные слова; его голос не может остаться спокойным, когда кровь его кипит в справедливом возмущении. И Кастел-лио не может долго сдерживать себя, не может спокойно рассуждать, видя пыточный столб на площади Шампель, на котором в страшных мучениях умер невиновный человек, отданный в жертву по приказу своего духовного брата; ученый, преданный ужасной смерти ученым, богослов — богословом — во имя чего? — во имя религии любви.
Своим внутренним взором видит Кастеллио картину мучений Сервета, картину жестоких массовых преследований еретиков, он отрывает взгляд от рукописи и ищет виновников этих зверств, напрасно стремящихся личную нетерпимость оправдать благочестивым служением Богу. И Кальвина увидел суровый глаз Кастеллио, когда он, взывая, написал; «И как бы ужасно ни было свершаемое вами, еще более страшный грех ляжет на вас, если вы будете пытаться прикрыть свои преступления одеянием Христа, если будете, свершая зло, ложно утверждать, что выполняете его волю».
Он знает, что во все времена насильники пытаются прикрыть свое насилие какими-нибудь религиозными или мировоззренческими идеалами; но кровь пятнает любую идею, насилие унижает любую мысль. Нет, Мигель Сервет был сожжен не по указанию Бога, а по приказу Жана Кальвина, и этим актом была опозорена на земле сама идея христианства. «Кто, — восклицает Кастеллио, — захочет нынче стать христианином, если признающих Христа истребляют огнем и водой, обращаются с ними более жестоко, чем с разбойниками и убийцами… Как можно желать служить Христу, если известно, что любой, не во всем согласный с захватившими власть и силу, будет заживо сожжен во имя Христа, хотя он, приговоренный к смерти, и из пламени костра будет кричать, что верит в Христа?»
Поэтому следует наконец, считает этот поразительно благородный, этот истинно гуманный человек, покончить с безумием, разрешающим мучить и убивать лишь за то, что люди в духовных вопросах внутренне противятся сиюминутным властелинам. И поскольку Кастеллио видит, что властелины вновь и вновь злоупотребляют своей властью, а на земле нет никого, кроме него, ничтожного, слабого, принимающего к сердцу муки гонимых и преследуемых, он в отчаянии поднимает к небу голос и заканчивает свой призыв экстатической фугой сострадания: «О Христос, создатель и царь мира, видишь Ты все это? Ужели Ты действительно стал совсем другим, чем был, стал таким страшным, враждебным к самому себе? Когда Ты пребывал на земле, не было никого более мягкого, более доброго, чем Ты, никого, кто так мудро терпел насмешки и издевательства; опозоренный, оплеванный, осмеянный, с терновым венцом на голове, распятый вместе с разбойниками, униженный до предела, Ты молился за тех, кто нанес Тебе все эти оскорбления, кто изрыгал хулу на Тебя. Неужели это правда, что Ты теперь так изменился? Я молю Тебя наисвятейшим именем Твоего отца: действительно ли Ты приказываешь топить в воде, рвать тело клещами до внутренностей, посыпать раны солью, рубить мечом, жечь на малом огне и всеми мыслимыми и немыслимыми видами пыток как можно медленнее мучить до смертного часа тех, кто исполняет Твои указания и предписания не совсем точно, как это требуют Твои учителя? Действительно ли Ты одобряешь все это, Христос? Действительно ли они — Твои слуги, те, кто повинен в этих бойнях, кто закалывает, расчленяет людей, словно убойную скотину? Неужто алчешь Ты человеческого мяса, если имя Твое призывают они в свидетели при этой чудовищной резне? Если Ты, Христос, действительно приказал свершать все это, что же останется сатане?
О, какое ужасное кощунство утверждать, что Ты делаешь то же, что и он! О, какими низкими должны быть люди, чтобы Твоим именем вершить все те ужасные действия, которые измыслить может только сатана!»
* * *
Если б Себастьян Кастеллио ничего более не написал, кроме предисловия к книге «О еретиках», а из этого предисловия — одну только эту страницу, его имя все равно навечно осталось бы в истории гуманизма. Ибо как одиноко звучит его голос, как мало в этих потрясающих мольбах надежды, что они будут услышаны миром, в котором бряцание оружием заглушает их и последнее, решающее слово оставляет за собой война. И хотя все религии, все мудрецы и поучают человечество бесчисленное количество раз, забывчивому человечеству следует постоянно напоминать самые простые человеческие требования. «Конечно же, — добавляет скромный Кастеллио, — я не говорю ничего, что не было бы сказано другими. Но повторять истину никогда не лишне, повторять ее до тех пор, пока она не завоюет себе признание».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу