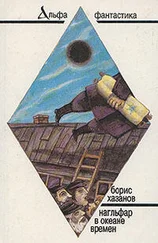Время от времени, когда ветер менял направление, город окутывало желтоватое облако. Дыхание чрезвычайно важного, секретного химкомбината, которому город был обязан районом новостроек, изменило облик горожан, лица мужчин сделались жёстче, мрачней, проступили северные угро-финские черты, а у женщин, всё ещё сохранивших среднерусскую мягкость, лица стали бледней и прозрачней. Володя приехал из столицы – здесь было легче поступить в институт, – кое-что знал из истории здешних мест. Город был едва ли не старше Москвы, некогда оспаривал у Владимира великокняжеский стол. Сколько-то веков тому назад дружина здешнего князя расколошматила рать татарского хана Кавгадая, победила его союзника, московского князя Юрия, но полегла и сама. С той поры воины в остроконечных шлемах поднимались из могил всякий раз, когда городу грозил набег и гудел набат. Давно уже нет набатного колокола, ничего не осталось от собора. Никто не вышел из-под земли страшной осенью сорок первого года. Дважды город на Волге был разрушен, сперва отступавшие взорвали всё, что успели, остальное погибло в уличных боях, когда наши вернулись. И теперь город отстраивался заново, но уже по-другому.
Вечером, воротившись домой, студент ожидал увидеть Нину, где же она, спросил он. «Нина твоя здесь больше не живёт», – мрачно ответствовала тётя Груша, и больше ни слова.
Глядя в пол, он спросил:
«А где же?»
«Что где?»
«Где она теперь живёт?»
«Я почём знаю». И надо же было случиться, что, сойдя на другой вечер с трамвая на остановке Александра Невского, он столкнулся с ней.
Она была всё в том же трамвайном пальто и валенках с галошами, но вместо ушанки на ней была низко надвинутая вязаная шапочка колпаком; концы волос закрывали щёки, придавая Нине детский вид; мельком взглянула на него и перевела взгляд на толпу.
Он спросил, трудно ли работать кондуктором.
«А я там больше не работаю!»
Почему, спросил он.
«Да ну их. Надоело».
«Ты… – он замялся. – Ты кого-нибудь ждёшь?»
«Тебя, кого же».
Он сказал: «Неправда».
Подошёл следующий трамвай, снова вывалилась толпа, и опять она искала глазами кого-то. «Ну, я пошёл», – пробормотал он. Нина остановила его.
«Замёрзла я чтой-то. Ещё простыну. Проводи, раз такое дело».
«Да не так, – говорила она, – учить тебя надо… – Оба неловко шагали по узкой дорожке вдоль засыпанной снегом канавы. – Девушку надо взять под руку. А то ещё шлёпнусь, не дай Бог».
Сумерки сгустились, это была улица, соседняя с Александром Невским. Улица называлась Канавка. Дом был поменьше, чем у тёти Груши.
Поднялись на крыльцо, у Нины свой ключ, там сени, потёмки, глухая тишина. Скрипнула дверь, щёлкнул выключатель. Глазам предстали хоромы. С потолка, вся увешанная сосульками, свисала, допотопная люстра, тусклое призрачное сияние озарило портреты в облупленных рамах, выставку икон в красном углу, старинный резной комод и обширную кровать с затейливым изголовьем, с подушками горой и сероватым кружевным подзором. Нина сидела в разлапистом кресле, студент опустился на колено, стянул с неё валенки. Она подтягивала чулок, высоко подняв ногу, поправляла подвязку.
В комнату, неслышно подкравшись, заглянула щербатая старуха-горбунья… Студент поднялся с пола, Нина одёрнула подол
«Брат приехал, бабушка».
«Откеля?»
«Из Москвы, бабушка».
«Нешто у тебя в Москве брат?»
Хозяйка водила утиным носом, приглядывалась, принюхивалась.
«Мы, бабушка, чай будем пить».
«Здесь нельзя».
«Чего нельзя?»
«Ночевать нельзя. Вишь ты, брат приехал», – и зашлёпала прочь.
Откуда это всё, думал студент, оглядывая комнату. Нина Купцова объяснила: из деревни. Там у них помещики жили, вот она и награбила.
«Тут ещё в комоде куча разного добра, хочешь, покажу?»
«Ты хотела чай».
«Успеется».
Выдвинула нижний ящик и рылась там, похихикивая.
«Вот! – она объявила, поднимаясь с колен, держа что-то воздушное, невесомое. – А теперь закрой глаза… Или нет, лучше выйди. Говорят тебе, выйди! Я позову…»
Он вошёл через минуту, и обомлел, увидев её совершенно нагую в большом поцарапанном зеркале над комодом. Оглянулся – Нина сидела на кровати, опираясь ладонями голых рук, скрестив ноги, на ней было белое полупрозрачное платье на бретельках, с кружевами на груди, а вернее сказать, ночная рубашка. Тотчас она встала, босиком, в длинном и, очевидно, рассчитанном на крупную женщину одеянии, едва держащемся на плечах, покачиваясь, балансируя худыми руками, прошлась по комнате. В этом и заключалась загадка зеркала: двуязычный иероглиф пола никогда не может быть расшифрован до конца. Володе (как он рассказывал нам спустя много лет) не приходило в голову, что одежда не прячет женскую наготу – напротив, выставляет её напоказ. Нина в рубашке казалось обнажённой больше, чем если бы на ней вовсе ничего не было. До некоторых банальных истин приходится добираться самому.
Читать дальше